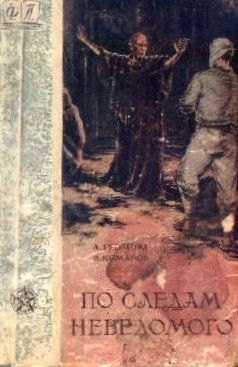Потом неожиданно в этот шум ворвался пушечный выстрел. Один, другой, третий. Стало ясно: по всему фронту шла ружейная пальба пачками. Под это прерывистое постукивание я снова уснул. Было часов семь, когда мимо меня пронёсся наш хозяин и на ходу погрозил мне пальцем:
— Надо ещё спать... Неизвестно, можно ли будет выспаться завтра.
Через минуту пан Павловский уже сидел в нашей палатке и блистал своею осведомлённостью. Он действительно знает чересчур много для человека, стоящего вне армии. Он знает, где расположены парки, сколько их, сколько осталось в Янове, в Белгорае, в Шебершине. Называет по номерам все дивизии, проходившие через Гуциско. Навязывается с беседами и стратегическими соображениями. В суждениях он смел, ироничен, как будто чуть провоцирует на свободные разговоры. Но в то же время осторожен и фальшиво подыгрывается то так, то этак. В доме у него наш телефон. От штаба дивизии какие-то охранные записки. Похоже, будто это наш собственный шпион. Но возможна и обратная версия. Со мной он особенно любезен и, глядя мне пристально в глаза, говорит очень вкрадчиво:
— Вам я скажу такое, что вчера при них сказать не хотел. Вы думаете, австрийцы действительно грабили? Ни зёрна. Брать-то брали, но за каждую травку платили, за каждый кусок хлеба давали деньги. «Мы даром не хотим, мы не нищие, а солдаты», — говорили они нам. Шесть недель прожили они тут. Вы понимаете, я не немец... Но я бы хотел, чтобы они всю жизнь не уходили отсюда. Многие капиталы успели нажить за эти шесть счастливых недель. Клянусь вам Богом, мы теперь живём только тем, что получили от них. А наши? Грабители! Мародёры! Скажите сами: разве это хорошо? Выпасли весь клевер у меня на лугах и полушки медной не заплатили. Дрова жгут. Я им ничего не говорю, я даю... Попробуй не дать! Но я ведь заплатил за эти дрова сто рублей зимою. Я для себя готовил.
— Скажите, пан Павловский, что вам даёт такую смелость так откровенничать со мной?
— Моё высокомерное самомнение, пан доктор. Я же крепко уверен, что в прекрасном саду Божием есть ещё хорошие люди... А хотите знать, что рассказывает пантофлёва почта?.. Пантофлёва почта рассказывает, что Перемышль уже пал и что там взята в плен масса русского войска... — Пан Павловский присел ко мне на постель и зашептал доверчивым голосом: — А слыхали вы, как на рассвете жаворонки свистели?
— Какие жаворонки?
— Те самые, после которых на полях остаются окровавленные головы... Знаете, что это обозначает? Вас теперь заманивают за Сан. Пальбу слыхали? Это наши стреляли...
— Извините, пане. Я, признаться, совершенно не понимаю, кого вы разумеете под «нашими» — русских или австрийцев?
Пан Павловский лукаво рассмеялся:
— Ей-богу, пан доктор, вы-таки шельма: я сам, сказать вам по совести, не знаю... Но на этот раз — русские. Это ваши войска строили под огнём мост через Сан влево от Рудника. Сегодня будут строить мост направо от Рудника. Австрийцы не стреляют. — Пан Павловский сделал загадочную паузу. — А почему они не стреляют? Дают нам (или вам) достроить мосты. Дадут построить ещё четыре моста. А потом, когда наши войска перейдут, они своими тяжёлыми дальнобойными орудиями разобьют мосты и прижмут вашу армию к Сану. Теперь они уводят за собой всех жителей, даже малых детей, собачки не оставляют. Забирают скот, лошадей, птицу. Говорят, готовят кладбище для русской армии.
— Откуда это у вас такая завидная осведомлённость?
— Откуда — вы не спрашивайте. Если хотите знать, то за три недели до вашего отступления из Галиции нам уже передали, что здесь скоро будет русская армия. Мы смеялись, а оказалось — верно. Они хотят теперь, чтобы вы перешли за Сан и сами перетащили всю свою артиллерию, обозы и парки к ним. Когда мосты будут уничтожены, вам поневоле придётся все оставить у них.
— А потом что?
— А потом они пойдут в Люблин, заберут Варшаву. У нас тут поговаривают, что дорогу вы строите для их тяжёлых орудий, чтобы германцы могли подвезти их под Варшаву... Вообще, я думаю, что там вы не будете, куда теперь собираетесь. Там скоро австрийская кавалерия будет...
— Не запугаете, пан Павловский!
И вдруг из тёмных архивов памяти вынырнула моя львовская Кассандра. Припомнился тихий вечер, миловидная женщина с задумчивым голосом, великолепные белые лебеди на озере Фильстер и загадочное пророчество: вы в Тарнов не попадёте, там наша кавалерия будет... Как это я до сих пор ни разу не вспомнил о ней?..
— А вы во Львове бываете, пан Павловский?.. На улице Шептыцкого, номер восемьдесят девять?
Пан Павловский изумлённо посмотрел на меня, сделал обиженное лицо и торопливо приподнялся.
— Да, конечно, — спохватился он, — это так болтают. Это же все пантофлёва почта. Но один день удачный — и все повернётся по-другому.
* * *
«Из стратегических соображений наши войска покинули Перемышль», — гласит официальная сводка.
— Напрасно мы так церемонились с галицийскими жителями, — свирепо ворчит Огаросельский.
— У меня вестовой поляк, — угрюмо подтверждает Калинин. — Он говорит мне, что все они — те, что будто бы за нас, и те, что против нас,- одна шайка. И пан Сикорский, которого мы так облагодетельствовали, не лучше других.
— В тысячу раз хуже! — яростно подхватывает Старосельский. — Это такой прохвост, которого давно бы надо повесить. Мы должны поступать, как немцы. Заняли какую-нибудь область — моментально истребить всех жителей до последнего, сжечь все дома, чтобы на сто вёрст кругом ничего не осталось. Вот тогда бы они почувствовали, что значит война. Тогда бы они не пожелали больше с нами воевать. Перестали бы шпионить. И от одного имени нашего падали бы в обморок. Только так с ними и можно. Истребить всю нацию, чтобы ни одного не осталось!
— Это уж прямое покушение на пана Павловского, — шутит Болконский.
— Явный шпион! — восклицает Старосельский. — Чего мы с ним церемонимся? И слуга у него австриец, «случайно» застрявший в России за неделю до объявления войны. И бывает он, этот Михаил, то на этой, то на той стороне Сана. Погодите, он ещё у меня затанцует, этот немецкий прихвостень. Я ему покажу!..
9
Опять в зарядных ящиках ни одного снаряда. Опять наседают немцы. И в штабах опять занимаются сочинением трагических анекдотов на тему о еврейском шпионаже. Анекдоты один другого нелепее. Но это не мешает преподносить их в форме официальных приказов, из которых некоторые носят характер самых наглых и беззастенчивых наветов. Грязные штабные повара даже не надевают перчаток, выкладывая на патриотические блюда свою юдофобскую стряпню. Сегодняшний приказ, например, циничнейшим образом заявляет, что для утверждения своих шпионских замыслов хитроумное племя иудеев умудрилось склонить на свою сторону... казаков. За одну золотую пятёрку крепкое патриотическое казачество изменяет «славным» юдофобским традициям своих отцов и передаётся на сторону галицийских евреев.
«При переездах с места на место евреи-шпионы прибегают к содействию наших казаков, платя им по 5 рублей за телегу (рыночная цена нашего казачьего патриотизма в точности известна всеведущему разведывательному бюро). Таким образом, шпионы переезжают под прикрытием наших же солдат...
Замечено, — продолжает свои «секретные разоблачения» приказ, — что австрийские шпионы — преимущественно евреи, действующие в тылу нашей армии, в переписке именуют Россию «тётей Рузей», а Австрию «сестрой Эстер». Указывая, где наши войска и сколько их, они пишут: тётя Рузя живёт теперь там-то и живётся ей хорошо, если сил много, или здоровье её плоховато, если сил мало».
Далее в приказе сообщается, что разыскивается житель Сувалок Иван Гурский, оказывавший все время содействие немцам, давая им сведения, у кого из окрестных жителей имеется фураж, скот и лошади. И под конец называется прапорщик Вильгельм Аменде, который был на излечении в госпитале, заподозрен в шпионстве и скрылся.
— Ну, что это? — пожимает плечами адъютант. — Сколько месяцев мы странствуем по Галиции и по Польше, можем ли мы припомнить хоть единственный случай, когда казаки или солдаты возили с собой евреев?
— На том основании, что мы не видали, нельзя ещё говорить, что этого нет, — злобно заявляет Старосельский.
— Почему же? — насмешливо спрашивает Болконский. — Когда речь идёт о шпионах-поляках или немцах, всегда называются определённые факты и определённые имена. А обвинение против евреев носит постоянно какой-то голословный характер: неизвестного звания, ноги, обутые в чулки со стрелками; еврейские пальто с золотой пятёркой под вешалкой; переодетые казаками старики и тому подобная чепуха.
— Мы не адвокаты, а офицеры, — по-командирски бросает Старосельский. — Мы не имеем права относиться с недоверием к словам своего высшего начальства.
— Ах, забодай его лягушка, — иронически почёсывается Кириченко и тихонько напевает сквозь зубы модную офицерскую частушку:
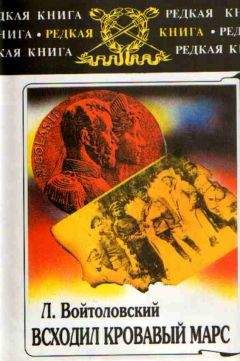

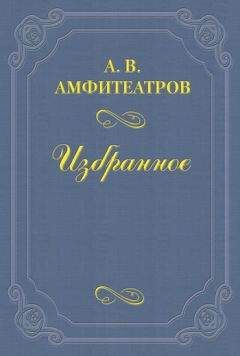
![Владимир Плотников - По остывшим следам [Записки следователя Плетнева]](https://cdn.my-library.info/books/143260/143260.jpg)