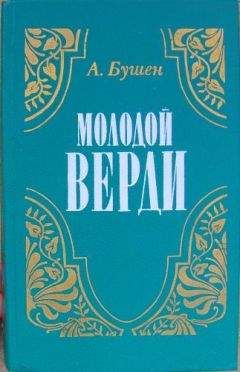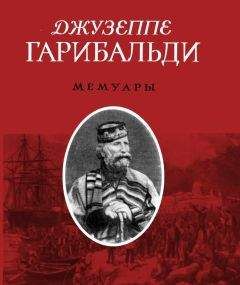— Вы не пожалеете об этом. Я вам все верну…
Синьор Антонио плакал. Слезы текли по его щекам. Ну что же, потом все сложилось не совсем так, как он надеялся, не так, как они все думали. Много горя и разочарований пришлось пережить. Очень много таланта и мужества понадобилось, чтобы все превозмочь. Но все же первая опера Джузеппе «Оберто» была поставлена в Ла Скала и прошла с успехом. Впереди предстояли лучшие дни. Антонио думал еще порадоваться на счастье детей. И вдруг — катастрофа! Пресечена молодая жизнь. Бессмысленно! Жестоко!
Синьор Антонио долго не мог успокоиться. Потом вынул из кармана платок и вытер глаза. Что делать — Гиты не вернешь. Остается — изживать это страшное горе. Гусиное перо снова заскрипело по бумаге.
«Вечный покой чистой душе! Я же, несчастный отец, горько оплакиваю тяжелую утрату».
В саду за окнами бил фонтан. Сквозь закрытые ставни был слышен легкий плеск струящейся воды.
В этот день синьор Антонио больше ничего не записал.
Поздно вечером кассир Филармонического общества Лауро Контарди также сделал запись у себя в дневнике: «Сегодня, двадцать второго июня вернулся из Милана наш председатель синьор Антонио Барецци и с ним маэстро Верди. Синьор Барецци, как видно, потрясен кончиной дочери. На маэстро Верди страшно смотреть. Что» будет с новой оперой?»
Лауро Контарди с волнением задавал себе этот вопрос: «Что будет с новой оперой?» И даже после того как он написал эту короткую, но полную для него особого смысла и значения фразу, он тщательно подчеркнул каждое слово.
Синьор Контарди был не только кассиром Филармонического общества, — он был страстным любителем музыки и в родном городе слыл знатоком и ценителем этого благороднейшего из искусств. У синьора Контарди была отличная библиотека, и все знали, что он не пропускает случая приобрести ценные рукописи и редкие партитуры.
Но он не только собирал рукописи и партитуры. Он с увлечением играл в оркестре. Умел играть на трубе, на геликоне, на корнете и на валторне с клапанами. На этом инструменте — новом и только начинавшем входить в моду — он прослыл виртуозом.
По правде говоря, называть Лауро любителем музыки в обыкновенном, общепринятом смысле этого слова — не совсем верно. Надо сказать прямо: Лауро Контарди любил музыку больше всего на свете. О, это было чрезвычайно глубокое и сильное чувство! Оно сливалось с чувством любви к родине, и потому оно было и сложным и мучительным.
Конечно, Лауро сознавал, что в настоящем родина несчастна и унижена, но он умел гордиться ее былым величием и, что важнее всего, страстно верил в ее возрождение. И когда он думал о родине возрожденной и свободной, он думал о музыке. О новой, никогда еще не звучавшей музыке. Именно о музыке и только о музыке. Потому что другие искусства в стране давно уже стали прошлым. Памятники из камня и мрамора стояли веками как полное горечи напоминание о потерянной силе, о померкнувшей славе, об отшумевших пирах и победах. Страна была порабощена и беззащитна, и потому ее грабили. С полотен великих итальянских мастеров, с картин, внесенных в каталоги, известных всему миру, не только снимали сотни копий. — Иногда снимали и сами картины. И увозили за Альпы. А новых художников-гигантов, чудодейственно владеющих резцом и кистью, в стране не было. В этом Лауро должен был признаться: ни Микельанджело, ни Леонардо, ни Тинторетто, ни Мантеньи. Века расцвета живописи и ваяния были прошлым. Далеким, быть может, навсегда ушедшим прошлым. И только музыка… Да, с музыкой дело обстояло иначе. Музыка была и прошлым, и настоящим, и будущим. Она была гордостью, утешением и залогом победы. Можно было вывезти все партитуры, могли переселиться в другие страны лучшие итальянские композиторы — музыка в Италии продолжала бы жить. Она жила в сердцах людей, она была вечной, как сам народ. Она рождалась из радости и скорби. Она была и застольной песней, и элегией, радостным гимном, траурной одой. Язык музыки был родным языком народа, языком, им созданным. И композиторы, вышедшие из этого народа, обогащали свой родной язык новым содержанием и новой силой выразительности. Страна непрестанно и без устали рождала композиторов. Никогда не переводились они на родной земле. После Палестрины и Марчелло — Монтеверди и Перголези. А когда не стало Перголези — Скарлатти и Чимароза. И вокруг этих величайших из великих — буйная молодая поросль. Да что говорить: так богата музыкой почва родной страны, что этой музыкой питались композиторы других народов. Сам Моцарт пленился ее напевами и вплел их в золотую ткань своих бессмертных партитур. Да что говорить: так богата музыкой почва родной страны, что сейчас, когда родина изнемогает под чужеземным игом, когда когтистая лапа угнетателя вот-вот сожмется, чтобы задушить народ, этот народ гордо заявляет о себе чудесным цветением музыки, восходом сияющего созвездия. Россини, Беллини, Доницетти — разве не говорят они красноречивей и убедительней любого оратора, что народ жив, что он не утратил самобытности? Разве не свидетельствуют они на весь мир о том, что не иссяк родник мелодии-песни, что не остывает жар неподдельного чувства, что не угасла любовь к жизни и не убита вера в счастье?
У Лауро Контарди была мечта. Никто этого не знал. Мечта была тайной. С годами эта тайная и несбывающаяся мечта стала жгучей и мучительной. Лауро мечтал о том, чтобы родился композитор, который заговорит о новых чувствах пробуждающегося к жизни народа, мечтал о том, чтобы родился композитор, который заговорит о борьбе и свободе. День освобождения был близок. В это Лауро верил твердо. Признаки пробуждения новых сил были повсюду. И нужен был композитор, который языком музыки сказал бы об этом — мужественно и смело. Смелей, чем это говорили до сих пор. Иначе. Новыми напевами. Разве это невозможно?
Лауро Контарди мечтал затаенно и мучительно. Что, если бы такой композитор родился у них в городе? А почему бы и нет? Буссето — город, веками связанный с культурой музыки. Разве не существует Филармоническое общество больше трех столетий? Поезжайте в Парму, найдите в городском музее картину Биаджо Мартини — увидите! На полотне изображена торжественная встреча императора Карла V с папой Павлом III. В 1533 году. В Буссето. Трудно поверить, не правда ли, что ставший теперь ничтожным, потерявший какое бы то ни было значение городок видел в своих стенах одновременно и великого императора и главу католической церкви, наместника апостола Петра на грешной земле? Но так было на самом деле. Буссето было в то время резиденцией великих герцогов Паллавичини. Они были тогда могущественными и непобедимыми, эти Паллавичини. Любили пышность и великолепие. И покровительствовали искусствам. При дворе герцогов были музыканты-филармонисты. Из местных жителей. Они очень тщательно выписаны на полотне кистью Биаджо Мартини. Филармонисты находятся на возвышении, они в богатом наряде, в руках у них флейты и виолы. Вот с каких пор в Буссето процветала музыка!
В городке была музыкальная школа. В школе преподавал маэстро Провези, композитор родом из Пармы. Лауро Контарди был его другом. Вместе с маэстро Лауро обходил окрестные селения в поисках учеников для школы и радовался каждому малышу, у которого обнаруживал звонкий голос, точный слух и крепкий ритм.
Но особенно горячо, от всей души порадовался он, когда Антонио Барецци уговорил трактирщика и огородника Карло Верди из деревушки Ле Ронколе отдать в школу своего сынишку. По тому, как этот ребенок слушал музыку, видно было, что его стоит учить величайшему из искусств. Лауро давно заметил мальчика. Еще когда он был совсем маленьким, лет четырех-пяти. Отец брал его с собой в город, когда приезжал в лавку Барецци для закупки соли, кофе, перца и других специй, необходимых для несложной кухни деревенской харчевни. Мальчик смирно сидел в одной из глубоких корзин, перекинутых через спину низкорослого серого ослика, привыкшего таскать самую разнообразную поклажу. Карло Верди вынимал сына из корзины и оставлял его в лавке Барецци. А сам уходил по своим делам. Иной раз надолго. Он никогда не торопился домой. В городе было у него немало приятелей. Он любил выпить и поболтать. Трудно сказать, как это удавалось малышу, но он всегда ухитрялся пробраться в зал, где шли репетиции филармонического оркестра. Сколько бы времени они ни продолжались и что бы ни исполняли синьоры любители, он сидел неподвижно, забившись в уголок, и слушал. И однажды, когда все уже ушли, Лауро нашел его сидящим на полу между двумя шкафами. «Надо уходить», — сказал Лауро. Но мальчик не ответил. И Лауро понял, что он не слышит слов. Он был в состоянии какого-то безумного, немого восторга. Он все еще слушал музыку. Лауро тогда же поразила непомерная сила этого чувства в таком маленьком, с виду обыкновенном ребенке. Потому что он был тогда совсем маленьким ребенком, обыкновенным деревенским мальчонкой, неприветливым и диковатым, даже угрюмым. И ничего привлекательного в его наружности не было. Росту он был небольшого, тщедушный. Отец был всегда озабочен его здоровьем. Не очень-то они с женой были счастливы в своем потомстве. У мальчика бывали припадки конвульсий — внезапные и необъяснимые. А девочка, всего на год моложе брата — звали ее Джузеппа, — так и росла калекой, глухонемой и слабоумной.