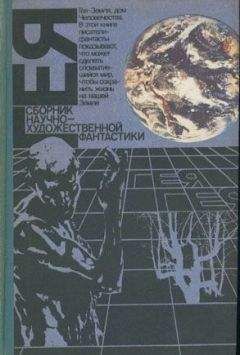— Дедушка хочет с тобой говорить.
Роман не без труда заставил себя встать, подошел к старику. Сэрхасава Сиртя лежал точно так же, как и час назад, с закрытыми глазами. Полагать, что в таком состоянии старик может или хочет что-либо сказать, было по меньшей мере наивно.
— Возьми его за руку,— велела девочка.
Роман коснулся безжизненно-холодной левой руки, намереваясь проверить пульс, но Пуйме остановила его:
— Не за эту, за другую.
Правое запястье у старика было чуть теплее — что, в общем, ничего не меняло.
— Крепче возьми!
Роман чуть крепче сжал пальцы, уже сердясь на себя за потакание глупым детским фантазиям. «Пора сказать ей, что здесь не место и не время для игр»,— подумал Роман, открыл было рот и...
Словно разрядом тока обожгло его пальцы, обхватившие тощее старческое запястье, и рука, которая, казалось, не принадлежала более этому миру, дрогнула, согнулась слегка в локте, шевельнула кистью.
Не понимая, что происходит, Роман перевел взгляд на лицо умирающего и едва не отпрянул: Сэрхасава Сиртя смотрел на него широко открытым правым глазом. Глаз был водянисто-голубой, будто размытый старостью, мудрый и проницательный.
— Вы меня слышите? — громко спросил Роман. И, хотя губы старика почти не шелохнулись, послышалось отчетливое и даже ироничное:
— Я слышу тебя очень хорошо, можешь не кричать. Болезнь забрала мое тело, но не разум.
— Ваша внучка сказала, что вы доктор?
— Это так. Я уже лечил людей, когда твои родители были младенцами. И видел много смертей. И потому знаю: мне не помочь. Не огорчайся. Ты — хороший врач. Ты многим здесь удивлен, но ни о чем не спрашиваешь. Больной для тебя важней собственного любопытства.
— Вам не следует столько разговаривать, надо беречь силы.
— Зачем беречь? Нум (В ненецкой мифологии — верховное бестелесное существо, творец Земли и всего на ней существующего.) ждет, завтра к нему пойду. А сегодня жизнь надо вспоминать. Долго жил, хорошо...
«Сколько же ему лет,— подумал Роман.— Восемьдесят? Сто?» И тут же услышал в ответ:
— Старый совсем. Пуйме еще не было, а у меня в уголках глаз уже лебеди сели... Лет сто живу, думаю.
«Телепатия,— решил Роман, стараясь сохранять спокойствие,— самая обыкновенная телепатия. Самый обыкновенный шаман, который владеет самой обыкновенной телепатией». Ему захотелось ущипнуть себя и проснуться, и все же он знал, что происходящее с ним сейчас — не сон и, несмотря на необычные обстоятельства, надо действовать рационально. Проще.
— Ты — шаман? — решившись, напрямую спросил он.
— Так ненцы меня называют,— хихикнул дед.
— А ты разве не ненец?
— Сиртя я. Сиртя давно здесь жили, еще до ненцев. Помаленьку умерли все, мало осталось.
— Так что же ты в глушь забрался, в эту пещеру? От людей спрятаться?
— Зачем — прятаться? У каждого свое место в жизни. У меня здесь дел мно-ого! Людей лечить надо, когда приходят? Надо. Нуму молиться надо? Надо. Священное Ухо охранять надо? Надо. Тадебцё кормить надо? Надо...
Молитвы, духи и священные уши мало интересовали Романа, но вот то, что шаман-сиртя — опытный лекарь, вдруг кольнуло его горьким предчувствием неизбежной и невосполнимой утраты. Ему представилось, что вместе с этим шаманом, может быть, последним представителем своего племени, вместе с ним исчезнут бесследно уникальные знания и опыт... Господи, сколько же секретов народной медицины утеряно из-за такой самоизоляции! Эх, дед, дед...
— Кто же твои дела вместо тебя станет делать?
— Пуйме и станет.
— Этот ребенок? — удивился Роман, И сразу напомнил себе, что девочку надо обязательно забрать в поселок, устроить в школу-интернат. Он обернулся... и обомлел. Под котлом трещал сухим хворостом огонь, тепло костра ощущалось даже в углу, где лежал старик. А возле очага было просто жарко. Потому Пуйме уже скинула паницу и стояла, помешивая в котелке варево, обнаженная по пояс. Тело, которое увидел доктор в отблесках пламени, не было детским: перед ним стояла, нимало его не смущаясь, взрослая, полностью сформировавшаяся девушка. Роман понял теперь, в чем заключался диссонанс между поведением Пуйме и ее обликом: ей было не двенадцать лет, как он ошибочно предположил, а никак не меньше двадцати. Лишь рост у нее был детский, метр десять, от силы метр двадцать. Впрочем, и дед не выше. Может, генотип такой?
— Сиртя — человек маленький,— подтвердил его мысли Сэрхасава.— Зато шаман большой.
— И Пуйме?
— И Пуйме. Большой шаман. Выдутана. Хорошо камлает. Всех тадебцё знает... Идерв знает, Яв-Мал знает, Я-Небя (Дух воды; дух верховий реки; Мать-земля — покровительница женщин (ненец).)...— Мысленный голос старика ослаб, перешел в невнятный шепот.
— Дедушка устал,— сказала Пуйме.— Иди поешь. Пусть он пока отдохнет.
Деревянной поварешкой на длинной изогнутой ручке Пуйме выловила из котла гусиное мясо, одну миску — солдатскую, алюминиевую,— наполнила почти до краев, поставила перед Романом. В другую, эмалированную, поменьше, положила лишь несколько кусочков. Заправила бульон двумя пригоршнями муки, передвинула котелок к краю огня, на его место повесила большой медный чайник с узким и изогнутым, как журавлиная шея, носиком. И только после этого села на шкуры напротив Романа, протянув ему тяжелую серебряную ложку с двуглавым орлом и вензелями на черенке.
После целых суток поста соблюсти северный этикет — за едой держать язык за зубами — Роману не стоило особого труда. Гусятину он проглотил с волчьим аппетитом, на жирной пахучей похлебке сбавил темп и перевел дух только за черным и горьким, как хина, чаем.
— Ты собираешься здесь остаться? — спросил он.
— Да,— кивнула Пуйме.— Буду жить в сиртя-мя, как жил дедушка.
— Но ты же молодая, красивая. Неужели ты веришь, что такое отшельничество кому-то нужно?
— Долг сиртя — лечить людей, молиться и охранять Священное Ухо.
— Это я уже слышал,— поморщился доктор.— Ну, хорошо. Допустим, все это очень важно. Но где твои ученики? У Сэрхасавы была ты. А у тебя? Кому ты передашь свои обязанности? Ведь сиртя больше нет.
— Кровь народа сиртя смешалась с кровью ненцев. У ненцев иногда родятся совсем маленькие белолицые дети. Их показывают выдутана. Из них шаман отбирает настоящих сиртя и много лет учит. Так было и со мной...
— Пуйме, сейчас другое время! Шаманов больше нет. Ненцы лечатся у врачей в больницах... Часто к тебе сюда приходят?
— Редко,— грустно согласилась Пуйме.
— Ну вот. И даже если у кого и родится ребенок-сиртя, сегодняшние ненцы не отдадут его тебе.
— Может, и не отдадут,— вздохнула Пуйме.— Может, я сама рожу.— Девушка сказала это просто, как нечто само собой разумеющееся.— А если среди моих детей не родится ни один сиртя... Что ж, значит, таково желание Нума.
Пуйме отставила кружку с чаем, наклонила голову, прислушиваясь.
— Дедушка отдохнул,— сказала она.— Сейчас начнет вспоминать. Иди, будешь дальше слушать.
Окончание следует
«...И если монсеньор и погибнет в бою, с его смертью не умрет Вандея!» — восклицает страшный Иманус, сподвижник Лантенака с высоты башни Тург, осажденной «синими».
Это не цитаты из великого романа Гюго, а реальность: жители Фужера, верные древним традициям, время от времени устраивают театрализованные представления — подлинные народные действа... Это и «Айвенго», и «Король Артур», и «93-й год».
У Виктора Гюго — мать вандейка, отец — республиканский, затем наполеоновский генерал. Поэтому писателю были одинаково близки и те и другие образы. Он подолгу гостил в Фужере (чем, естественно, город гордится) и использовал виденное в своем творчестве.
А видеть было что, ведь Фужер — многовековая резиденция герцогов Бретонских. Громада их замка высится над городом. Замок по сей день окружен вполне исправной системой рвов, наполненных проточной водой. Жители Фужера уверяют, что затопить город не составляет никакой трудности. Но для меня, в свое время иллюстрировавшего «93-й год», самым интересным было другое. В сердцевине герцогского логова высится каменное страшилище — башня Тург. Своей властью Гюго выхватил башню из центра Фужера и перенес на опушку Содрейского леса.
Еще в древности говаривали: «Лучше видеть глазами, чем бродить душой». И вот передо мной — Тург, а вокруг — вандейцы. Как трудно было их представить на расстоянии, как легко все воспринимать на месте!
— А вот девчушка — вылитая Жоржетт! — воскликнул Жан-Филигга, режиссер и постановщик «93-го года».
Объявленные Национальным конвентом «Республикой единой и неделимой», отдельные области Франции сумели сохранить тем не менее достаточно своеобразия... Как не похожи, например, провансальцы на бретонцев, и как те и другие отличаются от парижан! Вот целая бретонская семья. Глядя на их лица, видишь и преданность традициям, и бесстрашие, и готовность защитить свой уклад. Невольно опять вспоминается Гюго: «Вандея — рана, которой можно гордиться».