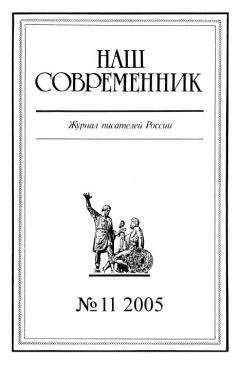В жизни я не вел ни дневников, ни литературных записей, о чем теперь сожалею. Но вот сохранившиеся листки о разговорах с отцом Димитрием.
«Первое мая 2000 г. Второй день Пасхи. Звонок от Дмитрия Сергеевича Дудко. Радостный голос. Рассказал, что нашел мою книгу об Аксакове (подаренную мною ему книгу „С. Т. Аксаков“ в „ЖЗЛ“). Стал хвалить ее. „Когда я ее читал, вспомнил детство. У нас в деревне тоже стучали колотушкой“. Сказал даже такие слова: „Я счастлив, что судьба свела меня с вами“. Чтобы увести разговор от этих смутивших меня слов, я начал говорить о его книге „Подарок от Бога“ — о детстве автора в голодный 1932 год, когда мальчик ударил палкой по голове старшую замужнюю сестру, пришедшую в их огород — чтобы она не рвала „райские овощи“, и как та вместе с матерью заплакала, а он потом всю жизнь с болью вспоминал об этом. Но о. Дудко все говорил свое об Аксакове. Сколько радости доставила ему книга. Видно, хотел поделиться со мной пасхальной радостью и меня порадовать пасхальным подарком».
«Седьмое мая 2000 г. Вечером по телефону отец Димитрий Дудко сказал мне, что в своей домашней церкви он начнет службу в одиннадцать часов дня. Я пришел около одиннадцати, но служба уже шла. Слышался в дверях хор из тоненьких женских голосков. Молились пять женщин, один молодой человек (как выяснилось потом, среди женщин — врач, библиотекарь; молодой человек — преподаватель школы). Церковка в бывшей жилой комнатке скромной квартиры в панельном доме. Через овальное окошко царских врат (перегородка комнаты) я увидел отца Димитрия в красной епитрахили, с кадилом в руках, заполняющим всё благоуханием. Молодая женщина с летающей правой рукой истово командовала хором из трех человек. Я старался не смотреть на отца Димитрия, он был погружен в службу. Через овальное окошко я видел, как он читал тихо молитву под звуки проникновенного песнопения, воздев вверх руки. Потом молившиеся стали причащаться. После окончания литургии мы с батюшкой перешли в отдельную комнату, где он прилег отдохнуть, а я, сидя против него, был еще под влиянием службы, но и видел, каким он стал другим. Дочка его, Наташа, придя к нам, дала мне просвирку. Пришла женщина-врач, измерила ему давление.
Потом принесли обед, вкусный суп с консервным мясом, кашу с печеночным паштетом, его батюшка не ел. Когда остались одни, начали разговор. Недавно мы с женой были на Глинских чтениях в Троице-Сергиевой лавре, где много говорилось о схиархимандрите Иоанне (Маслове) и на могиле которого на окраине города был совершен молебен при стечении массы народа, в том числе участников Глинских чтений. Отец Димитрий рассказал, что он и отец Иоанн — земляки, из Брянской области, их села в ста километрах друг от друга. Он хорошо знал его по духовной академии в Троице-Сергиевой лавре. Были между ними когда-то какие-то разногласия.
Отец Димитрий показал мне свои новые книги, сказал о себе: „Надо жить, как сказано в Евангелии: сердцем как голуби, а умом — мудро, как змий. И я как „змий“ в издании своих книг: одна женщина помогает мне — она связывается со „спонсорами“, те дают деньги и находятся издатели“. На моих глазах усталый, утомленный батюшка ожил, повеселел, помолодел. Вспомнил он место в одной из своих книг, поразившее меня: „Христос назвал евреев детьми отца дьявола (Евангелие от Иоанна). Но между отцом дьяволом и его детьми-евреями никогда не будет мира. Дьявол будет еще больше ненавидеть своих детей. Закон их — ненависть“.
Перед моим уходом, стоя у дверей, отец Димитрий сказал мне: „М. П., как вы относитесь к благословению священника?“ Мне стало стыдно. Ведь сколько знаю отца Димитрия, редко когда называл его батюшкой, и вот он деликатно напомнил мне, что он не просто Дмитрий Сергеевич, как я обычно его называл, не просто собеседник, автор книг, а священник, и недопустимо забывать о данном священнику свыше благодатном даре благословлять людей на добрые дела, на маленькие и большие подвиги, на мужество, вселять, укреплять в них веру. А ведь я не всегда просил у отца Димитрия благословения, редко когда целовал его руку, а он не менял оттого своего отношения ко мне. И грустно мне было, когда я прочитал в его книге „Шторм или пристань?“ в числе других и такие слова: „С Лобановым дружба, может быть, только начинается, я почувствовал в нем по духу сродное мне“. Эти слова, характеризуя его как беспредельно великодушного христианина, оставляют во мне горький привкус своего недостоинства перед батюшкой.
Он был действительно сеятель, разбрасывавший повсюду живительные семена. Он любил встречаться с молодежью, не раз приходил на мой семинар в Литературном институте побеседовать с молодыми авторами; переходя от стола к столу, выслушивал, приложив руку к уху, вопросы, отвечал просто и мудро. Он регулярно проводил в Московской библиотеке имени Блока беседы, делая упор на борьбу с алкоголизмом, брал со своих слушателей обеты не пить такой-то срок, а затем вовсе бросить. В той же библиотеке имени Блока в 2002 году отмечалось восьмидесятилетие отца Димитрия. Он усадил меня за столом рядом с собою, среди священников, других людей. С этого места зал был виден, как на огромном ковре: прекрасные лица, яркие, разноцветные одеяния; пришли любящие батюшку люди. Столы заставлены снедью, фруктами, прохладительными напитками, соками, квасами, ни одной бутылки горячительного. Сердечные поздравления, воспринимаемые юбиляром столь обыденно, что иногда он прерывал выступающего: „Хватит, хватит, долго говоришь!“.
Объявили перерыв, и вижу, как отец Димитрий вдруг насторожился, подозрительно глядя на выходящих из зала оживленных мужчин. „Уж не пошли ли они пить?“ — встревоженно спросил он самого себя. А я подумал: „Не из тех ли они, кто дал обет не пить?“».
Вечером 27 июня 2004 года на Красной площади завершился начатый от Храма Христа Спасителя крестный ход с Тихвинской иконой Божьей Матери, и здесь, в грандиозной массе народа у Казанского собора, с раздающимся на всю площадь через усилители торжественным голосом патриарха Алексия медленно доходил до меня смысл услышанного об отце Димитрии Дудко. От случайно встретившегося Петра Синицына я узнал, что батюшке совсем плохо, он так исхудал, что его не узнать. Давно отказался от врачебной помощи, лекарств. Последние шесть дней не принимает никакой пищи. Иногда только глоток святой воды. Дважды за эти шесть дней причащался. Никто не слышал от него за это время ни единой жалобы, ни единого стона. Возвратившись домой, я долго переворачивал в памяти, в душе все связанное с дорогим мне батюшкой, пораженный тем безграничным доверием, с каким он предал себя воле Божией, с таким христианским смирением уходя из жизни. На другой день он скончался, в половине седьмого утра.
Отпевали его в храме Троицы Живоначальной на Пятницком кладбище, что неподалеку от Рижского вокзала. Когда-то в семидесятые годы я изредка ходил сюда, тайком причащался, мне казалось, это место слишком укромное, скрытое, чтобы здесь меня могли встретить знакомые. И вот я теперь стоял в этом же храме, только переполненном скорбящим по батюшке народом.
Заупокойная литургия и отпевание длились долго, шесть часов, служба шла по архиерейскому чину. Лицо, тело его в гробу были прикрыты, видны только руки, даже не руки, а мощи. Прощаясь, я поцеловал их, а потом вспоминал, как при первой встрече с ним мне бросилась в глаза его властная правая рука, лежавшая на колене. И вот — мощи.
Более года, как нет больше с нами отца Димитрия Дудко. От храма — прямая дорожка к Пятницкому кладбищу, затем повернуть налево, идти вдоль бетонной стены, мимо овражка. На склоне овражка и приютилась могилка батюшки. В фонарике горящая лампадка. Его фотография незадолго до смерти — в беззащитном взгляде такая обнаженность души, духа, что, кажется, иного больше и нет ничего, кроме вечного, предчувствия его. Мы стояли здесь втроем — поэт Володя Смык, его жена Марина и я — и дума была у каждого своя. А я думал о том, что вот и обрел батюшка покой рядом со своей матушкой Ниной Ивановной, похороненной тут же несколько лет тому назад. Это о ней в его книге «Подарок от Бога» тот потрясающий момент, когда, глядя на нее в гробу, у разверстой могилы он как о самом очевидном для себя произносит тайно беспощадные, но полные надежд слова: «Что ты ищешь ее здесь, это вытряхнутое что-то, ее здесь нет, и как-то стало странно… Всё, спи до второго пришествия. Твое тело будет лежать здесь, а сама ты будешь свободно бывать где угодно». Какой мощью веры надо обладать, чтобы из затмения страшной земной утраты вырваться туда, где несомненна новая жизнь и где оба они пребудут вместе навечно.
БОРЬБА
Незабвенный Вадим Валерианович Кожинов как-то в ответ на мои сомнения в востребованности наших идей, нашего русского опыта в будущем, в новых поколениях сказал мне, что ничто не исчезает в историческом «бытии» (его привычное слово), не пропадает ни одно духовное усилие, что всё имеет свои последствия. Оглядываясь сейчас на свой пройденный путь, вижу, что вся жизнь моя — сплошная борьба, начиная с участия в сражении на Курской дуге до сегодняшнего сопротивления новым оккупантам. Пожизненная моя борьба — что называется, на идеологическом фронте. Но должен сказать, что, борясь, я никогда не прибегал к языку политических намеков, пусть кто укажет хоть на один пример обратного. Я считаю, что надо бороться на духовном уровне, и я этому следовал и следую, ибо здесь корень зла, всех идеологических конфликтов. И наоборот, мои противники только тем и занимались, что обвиняли меня в политическом, мягко говоря, злонамерении. Чего стоят уже одни названия рецензий на мои работы: «Было ли „темное царство?“» (о моей книге «А. Н. Островский» в серии «ЖЗЛ»); «Освобождение от чего?» (о моей нашумевшей статье «Освобождение» в журнале «Волга», 1982, № 10). Ну, конечно же, по «расшифровке» автора рецензии, освобождение от всех социалистических основ, коллективизации, индустриализации, марксистско-ленинской идеологии, классовой борьбы, «завоеваний советской литературы» и т. д. Хотя у меня смысл этого слова (следовательно, и самой статьи) совершенно иной. На примере романа М. Алексеева «Драчуны» (о голоде 1933 года в Поволжье) речь идет о том, сколь необходимо для творчества освобождение писателя от внутренней несвободы: «Не решавшийся до сих пор говорить об этом, только дававший иногда выход сдавленному в памяти тридцать третьему году — упоминанием о нем, автор набрался наконец решимости освободиться от того, что десятилетиями точило душу, и выложить всё так, как это было».