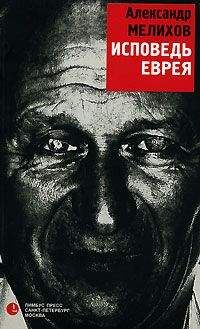Ну, я начал с ним как со стеклянным обращаться. Сбавил газ до минимума, иду тихо, точнехонько по прямой. И вот уже вблизи аэродрома метрах на двухстах аэроплан вдруг полез на петлю. Я сразу дал полный газ и в то же мгновение накрутил стабилизатор, отжал ручку и дал витков пятнадцать триммеру. Все это сразу. Машина встала на дыбы, свалилась на бок из вертикали и через несколько секунд плюхнулась на аэродром в нормальном положении. Опоздай я на несколько долей секунд — не разговаривали бы сейчас. Вылез и заволновался. Аж мокрый стал. Такого состояния еще не бывало со мной.
— А под Новый год вышел цирк. Сделал я одну штуку, которую, уверен, никто из испытателей еще не делал. Нашел инверсионный слой и стал в нем ходить. И получилось, как на продувке в трубе: все обтекание наглядно видно. Пятнадцать градусов, двадцать, под двадцать пять… Всё, ломает! Ага, что и требовалось доказать. Ну, ждать, пока доломает машину, было не резон. Я — вниз. Ничего, сели. Я оказался прав.
Феликс в своей понемногу издыхающей независимой газете впоследствии обвинил Алтайского, что он эти разговоры списал у какого-то Лазаря Бронтмана, я там же возразил (я тоже уже печатался), что бытовые записки обретают худценность только в худконтексте; сам же Алтайский до дискуссии не снизошел. Лишь как бы случайно рассказал, что в свое время на него из-за этих разговоров накинулись за недостаточную их серьезность, но будто бы аж лично Сталин их одобрил.
Сталину в летчиках, похоже, и нравилась их, как теперь говорят, безбашенность. В День авиации вождь был такой веселый, каким никогда его не видели. Он очень по-доброму посмеялся, что купол парашюта летчики называют мешком, и поднял бокал за них, за советских героев.
— Жизнь летчика важнее двухсот самолетов! — провозгласил самый человечный человек с бокалом в руке. — Это капиталисты оценивают человеческую жизнь деньгами, а нам, советским людям, пора усвоить новую меру — ценить людей по их подвигам. А что такое подвиг? Чего он стоит? Никакой американец не ответит на это, не скажет — у них есть только миллиарды презренных долларов, презренных фунтов стерлингов, презренных франков.
Кто-то из летчиков закричал:
— Товарищ Сталин, мы умрем за вас!
А Сталин с улыбкой ответил:
— Не нужно умирать за товарища Сталина. А нужно жить и побеждать врага за нашу советскую Родину.
Я к тому времени уже знал, что Сталин плохой, что при нем были бериевские лагеря, и даже мой папа в них побывал, но у Алтайского и Сталин был какой-то другой. Платоновская идея Сталина, сказал бы я, если бы хотел поумничать, но Алтайскому и правда повезло с глазами: они умели возвышать все, чего требовали нужды дня.
А тем временем началась война, и я, то бишь юный Алтайский, закончил летное училище и на фронте сражался на отцовских истребителях.
Война машин не вызывала у меня отвращения, потому что убивали друг друга не люди, а машины: наши славные ястребки крошили мерзкие мессеры, хейнкели и фоккеры, именуемые «рамами». Зависающий на страшной высоте разведчик, проползающий над передовой корректировщик, крадущийся между тучами бомбардировщик — всё это были не люди, а машины. И на земле взрывались и горели не люди, а вагоны и дома.
Пространства же между слоями светящихся облаков и вовсе походили на подводное царство, где медленно плавают гигантские клубы «молока», в которые норовят укрыться вражеские машины. И когда они, пылая, дымясь и кувыркаясь, прошивают клуб за клубом и завершают свой причудливый путь крошечной вспышкой на далекой земле, то хочется этому аплодировать, словно цирковому трюку.
Как погибают наши, я тоже не видел собственными глазами: обычно они улетали и не возвращались, словно бы так и растворялись в небе, и всегда оставалась надежда на какое-то «а вдруг?..». Но и похороны бывали очень красивыми: «смертью храбрых, в наших сердцах, отомстим…»
Потом залп.
Прям завидки брали.
В общем, Алтайский рассказывал, как он на отцовских самолетах сражался с врагом, а я видел, как одни машины сражались с другими.
А потом пришла Победа! И Алтайский, вместе с другими героями-победителями маршируя по Красной площади, увидел на Мавзолее неподалеку от Сталина своего отца в генеральской форме и в нарушение устава помахал ему рукой, а отец помахал ему в ответ.
И Сталин заметил это и очень по-доброму улыбнулся сначала сыну, а потом отцу. Отцу даже с пониманием покивал.
Я и сейчас не готов посмеяться над теми полудетскими слезами на глазах, с которыми я это читал: я был растроган не тем, что в это верил, — я уже и тогда был не настолько прост, — а тем, что этого не было, но конечно же должно было быть!
И, читая Алтайского, я всегда понимал: этого не было, но должно было быть! Искусство — мир высоких мечтаний, а не низких фактов! Так выражаться тогда я не умел, но очень даже чувствовал.
Но когда во времена перестройки, уже после нашей конференции, Алтайский рассказал, как оно было, не скрывая низких фактов, он тут же превратился из любимца старого режима в его обличителя.
Все это об Алтайском писал Феликс, я-то был потрясен, чего пришлось нахлебаться этому орденоносцу и лауреату.
На самом деле его отец происходил не из дворников, а из дворян и в конце двадцать девятого был арестован с тысячами «бывших», пошедших на службу новой аристократии, которую Феликс именовал жлобократией. Тут Феликсу с Алтайским вроде бы и не о чем было спорить: захватившее власть наглое жлобье, выехавшее в Гражданскую на интеллекте военспецов, устало терпеть рядом с собой их превосходство и принялось тысячами сажать и расстреливать блестящих профессионалов даже в оборонке, готовя будущие военные катастрофы.
Реальному отцу Алтайского шили тот самый рутинный саботаж и вредительство, в которых романный отец обвинял романного инженера с острой бородкой. Реальный отец действительно показал себя маловером по отношению к требованиям реального корпусного комиссара, по невежеству своему и впрямь желавшему невозможного на том основании, что нет таких крепостей, которых бы не могли взять большевики. Но взять им удалось только инженеров, которые упорно не желали достать для них луну с неба. Вредительством были объявлены все поломки и аварии, случавшиеся особенно часто из-за того, что от летчиков и машин требовали работы за пределами прочности.
Для солидности была арестована внушительная часть технической элиты авиационной промышленности. Как «социально чуждого элемента» отца Алтайского без суда приговорили к смертной казни с отсрочкой приговора. Так что он возглавлял тюремное конструкторское бюро «Особое» отчасти уже из загробного мира. Но успешный показ их истребителя, который перед лицом Сталина и Ворошилова