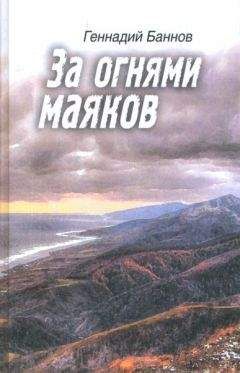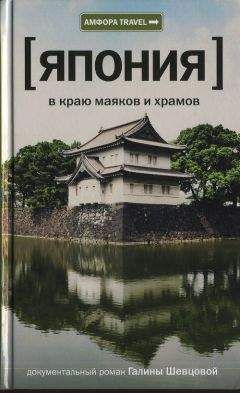— Мне пришлась по душе молчаливая ясность Севера, нравилась природа Урала,— рассказывал художник.— Мою память до сих пор волнует сумрак леса, его таинственные шорохи. Но после Севера мир южной степи и гагаузской деревни вошел в меня так резко, что я чуть не задохнулся... Одежда, избы, хлеб, язык — все иное!
Теперь уже четверть века Петр Влах живет среди гагаузов.
Так как я приехал к художнику, чтобы узнать о его чудесных тыквах, наш разговор все время возвращался к ним. В доме Влаха тыквы, превращенные мастером в кувшины и вазы, с горлышками в виде голов разных животных, в солонки, перечницы и ковши с затейливыми ручками, стояли и висели повсюду, наполняя комнаты каким-то особенным солнечным светом. И пили мы за обедом молодое вино из тыквенного сосуда, на горлышке которого был выжжен черный на золотом фоне — чабан, пасущий овец...
— А знаете, как я впервые увидел эти тыквы? — вспоминал мастер.— Как-то пошел купаться с мальчишками на пруд. Вместе с нами, не боясь глубины, плавали пяти-шестилетние детишки. Я заметил, что на поясе у них болтаются какие-то продолговатые шары-поплавки. Мальчишки мне объясняют: это, мол, тыквы, растут в огороде — сначала зеленые и тяжелые, как арбуз, а когда высыхают на солнце, становятся легкими и пустыми — только семечки гремят.
Среди бесчисленных предметов гагаузского быта, новых для глаз пытливого подростка, именно тыквы поразили его раз и навсегда. Он натыкался на сусаки — сосуды из тыквы — всюду: в одних держали ложки, соль, муку, перец, чеснок («в тыкве всегда сухо»,— объяснили мальчику), в других — вино, растительное масло, молоко («тыква сохраняет свежесть»), в третьих сосудах женщины носили в поле мужьям-трактористам родниковую воду («в тыкве вода всегда холодная»)... Петр шел в огород и смотрел, как растут и сушатся на заборе удивительные плоды. Ему не верилось, что, отрезанные от корней и превращенные в предметы быта, они остаются живыми. «Он дышит,— говорил отец про кувшин, из которого пил вино,— вино дышит вместе с ним и потому не умирает».
Приехав с Урала в самом конце лета, Петр с нетерпением ждал весны, чтобы увидеть, как сажают будущие сосуды. Их сажали как картошку, только семечком — каждое в отдельную ямку. Потом он наблюдал, как плоду, едва тот родится, придают определенную форму: перевязывают, чтобы образовалась ручка ковша или горлышко кувшина, либо подвешивают, чтобы удлинить его.
Как-то во дворе дома делали вино. Давили виноград. Желая попробовать муст, отец крикнул: «Дайте кружку!» Но пока искали кружку, он в нетерпении схватил нож, срезал тыкву, раскроил ее, выкинул внутренности и этим «ковшом» зачерпнул муст. Отведал сам и подал «ковш» Петру: «Пей!»
Это было очень давно.
— В те годы я даже представить не мог, что многое из того, что меня окружало, уйдет из жизни,— грустно говорил Влах.— А ведь еще учась в школе, я наблюдал, как тыква исчезает из быта гагаузов, как заменяет ее фабричная посуда...
— Люба, достань, пожалуйста, наш ящик с тыквенными семечками,— попросил Влах жену — спокойную, с ясным лицом молодую женщину.
Он зачерпнул из ящика семечки обеими ладонями и, любуясь ими, начал потихоньку сыпать обратно в ящик светло-коричневую струю. Семечки были твердые, ромбовидной формы.
— Это моя элита,— сказал Влах.— Я селекционировал тыкву годами, улучшая и отбирая сорта. А началось все с одного случайно найденного плода...
В Кишиневском художественном училище, куда Влах поступил после сельской школы, он с большим интересом изучал народное творчество. Закончив третий курс, приехал в Комрат, к родственникам. Бродил по окрестным селам, лазил по огородам и не мог поверить глазам — нигде не было видно тыкв. Заходил в дома, искал знакомые с детства сосуды и обнаруживал их где-то на задворках.
— Мне показалось, что вместе с этими сусаками выброшены за двор самые счастливые мгновения моего отрочества,— рассказывал художник.— Кажется, тут я впервые осознал, что должен возродить тыкву и вновь подарить ее людям...
В одном сельском дворе Петр увидел детей, гоняющих, как мяч, зеленую тыкву. Он позвал хозяйку и спросил, нет ли у нее семечек. Семечек не оказалось, и хозяйка, забрав тыкву у детей, отдала ее Влаху. В огороде у дяди, выпросив крошечный уголок, он посадил в землю семечки подаренной тыквы.
В год окончания художественного училища Влах сделал из выращенных тыкв первые свои сосуды. Но, выжигая на них орнамент, он понял: ему не хватает мастерства художника-графика. И уехал учиться во Львовский полиграфический институт.
— Где же, однако, вы выращивали свою элиту? — спросил я Влаха, глядя на его заветный ящик.
— У меня было поле,— ответил художник.— После первой выставки в Кишиневе местный колхоз выделил мне полгектара.
— Всего-то?
— О, это немало,— улыбнулся Влах.— На такой площади можно выращивать до десяти тысяч плодов! Вполне достаточно, чтобы создать народно-художественный промысел. И, собственно, все к этому шло. У меня уже появились ученики. Наши изделия поступали в кишиневский салон «Фантазия». Хотелось создать школу, благодаря которой тыква, как предмет домашнего быта и одновременно произведение искусства, снова стала бы достоянием моего народа. Однако для этого нужно было время. Те же, кто смотрел на наше творчество по-иному, кто нетерпеливо ждал только материальной отдачи, стали поговаривать, что этот народно-художественный промысел не имеет будущего. Спустя несколько лет поля у меня не стало...
— Где же вы теперь берете тыквы для работы?
— В огородах у жителей Комрата. Я заинтересовал своим делом молодых гагаузов. Некоторые из них охотно сажают семечки из моего ящика. Делятся со мной урожаем, а я, в свою очередь, учу их, как обрабатывать тыкву, как ее украшать.
Мы вышли из дома художника.
— Вот хорошие тыквы.— Влах остановился у плетня, на котором висели крупные желтеющие плоды.— Их выращивает Володя Балаур.
Во дворе показался голый по пояс мускулистый парень.
— Володя, дай-ка нам самую зеленую,— попросил художник.
Балаур поднял с земли увесистый плод и положил мне в руки. Пузатая тыква с уже наметившимся горлышком весила не менее четырех-пяти килограммов.
— Высохнет — ста граммов не останется,— сказал Балаур.— Хорошая ваза будет, Петр Николаевич?
— Хорошая,— подтвердил Влах.
Тыквы, что сохли на плетне, были желтые, но совсем не такие, как сосуды в доме у Влаха.
— Здесь они вбирают в себя свет и тепло солнца,— объяснил мастер.—Золотистыми становятся после обработки. Я покажу, как это делается.
Мы заглянули в его крошечную мастерскую.
— Вообще-то я чаще работаю дома,— сказал Влах, усаживаясь за стол и включив лампу.— Сначала досушиваю тыкву в горячей духовке. Потом снимаю безопасной бритвой тончайший верхний слой в полмиллиметра, но так, чтобы не повредить коры, которая и сама-то в миллиметр толщиной. Кстати, эта корочка необыкновенно прочна — крепче дуба, а твердостью и цветом сродни поверхности бильярдного шара. Вот почему сосуды из тыквы могут служить десятки лет!
Я наблюдал, как чуткими пальцами мастер быстро и ловко зачищал тыкву, и она на моих глазах преображалась. То была поистине ювелирная работа.
— Почему вы выжигаете орнамент на тыквах? — спросил я.— Ведь проще расписывать красками.
— Разве вы еще не поняли? — покачал головой Влах.— Я же говорил: эти сосуды живые. Краска же не пропускает воздух — они перестали бы дышать.
Орнаменты Петр Влах, похоже, сочиняет беспрерывно. На одной из лучших своих ваз — участнице многих выставок — он воссоздал волшебную игру пальцев, художественно переосмыслив этот типичный гагаузский элемент орнамента, взятый со старинного ковра. Из другого сосуда как бы выходила девушка в праздничном наряде — платок на ее головке, пояс и оторочки платья я узнал, побывав потом в Бешалминском народном гагаузском музее. Есть у художника и сосуд, исполненный в виде чиртмы — гагаузской флейты. В работах Петра Влаха оживает быт и история его народа.
В путешествие по окрестным селам мы отправились вместе. Солнечным осенним утром вошли в Кангаз, наверное, самое большое село в мире. Здесь живет двадцать пять тысяч гагаузов.
Мы шли по улицам Кангаза, здороваясь со стариками, что грелись на солнышке у своих калиток. Влах обещал показать мне подлинно гагаузский дом и уже направился к одному с коньком на крыше, изображавшим колоколенку, к которой подползают змеевидные драконы. Он спросил про этот дом стариков, и те дружно закивали шляпами:
— Он старше нас...
Петр достал блокнот и не выпускал его из рук, пока хозяйка показывала нам двор, где сушилась большая рыжая гора виноградной выжимки, и галерею с голубыми колоннами-столбиками, между которыми висели гроздья красного перца, и сам дом с прохладными глиняными полами. Влах зарисовывал тонкие узоры кружев и вышивок, резьбу на старинных сундуках, даже горки подушек в горнице...