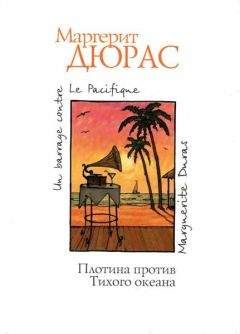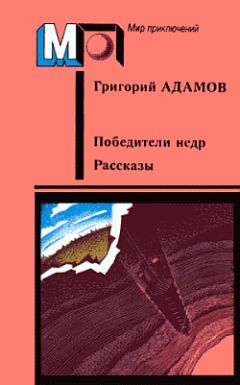Давно затихли шаги прошедших племен, века и пространства поглотили их живые следы. Древний путь превратился в широкое асфальтированное шоссе Чуйского тракта. На тракте день и ночь гудят машины. Тракт — основная транспортная артерия Горно-Алтайской автономной области. По ней идут грузы в соседнюю Монголию и из Монголии. Вдоль нее тянутся провода электропередачи и телефонные кабели. В 1926 году тракт выглядел иначе. Но Рерих о нем не писал. Его экспедиция не проходила по этому главному пути движения народов через Алтай. Николай Константинович предпочел параллельный, на мой взгляд, второстепенный путь. Но это только на мой взгляд. Этот взгляд возник потому, что я пока не знаю побудительных мотивов, заставивших Рериха, для которого проблема переселения народов была одной из основных, пойти другим маршрутом — тем, который повторила и я. Может быть, не только переселение народов его интересовало, но и что-то другое, что пока от нас скрыто. Как бы то ни было, проблема загадочного маршрута экспедиции возникла и требует своего решения. Думаю, что оно со временем придет...
Мой главный путь — а таковым был для меня маршрут Центрально-Азиатской экспедиции, — окончился, и я попала на Чуйский тракт. Но в этом опять-таки был повинен Рерих. «Проведите линию, — писал он в своей книге о Центрально-Азиатской экспедиции, — от южнорусских степей и от Северного Кавказа через степные области на Семипалатинск, Алтай, Монголию и оттуда поверните ее к югу, чтобы не ошибиться в главной артерии движения народов».
...И вот мы едем на «газике» по Чуйскому тракту. За баранкой Николай Михайлович Тимофеев. Не очень обычный человек и еще более необычный шофер. В его светлых глазах живет извечное и никогда не утоляемое любопытство к окружающему миру. Николай Михайлович работает шофером в областном управлении культуры.
Лента дороги вьется среди синеющих гор, идет по обрывистым берегам быстрых рек, подходит вплотную к отвесным скалам, взбирается на перевалы и спускается с них, устремляясь к белеющим вдали снежным хребтам. Эти хребты надвигаются на тракт, и кажется, что дорога сейчас упрется в них, остановится и прекратит свой извечный бег. Но снежные вершины постепенно отодвигаются к горизонту и дают простор Курайской степи, которая приветствует дорогу феерией красок. Степь образует самые неожиданные сочетания холмов, невысоких гор и обнаженных скал. Дорога стремится мимо Северо-Чуйского хребта к Кош-Агачу. За Кош-Агачем она делает резкий поворот к югу и через просторные речные долины уходит к Ташанте, а затем исчезает в горах и степях Монголии.
Мы едем по тракту целую неделю, ищем следы прошедших здесь племен и народов. Мы находим их везде — и вдоль самого тракта, и в долине Каракола, и между реками Барбургазы и Юстыд. Стоит только внимательно присмотреться, и сразу замечаешь древние погребения. Насыпанные из камней, большие и малые, просто каменные круговые выкладки, погребения, отмеченные менгирами и без них. Все это различные формы древней культуры мегалита. Культура «больших камней». Она была распространена во многих частях мира и кое-где даже сохранилась и в наши дни.
С курганами соперничают вертикальные камни менгиров. Одиночные и расположенные группами. Целые аллеи менгиров, уходящие туда, где восходит солнце. Реже попадаются стелы. Те же менгиры, но выше. Порой до четырех метров. На них высечены боевые топоры, мечи, а иногда три таинственных круга.
Николай Михайлович заболел всем увиденным сразу и бесповоротно.
— Курган! — торжествующе сообщал он. — Надо остановиться.
Мы останавливались.
— Менгир! — Мы снова останавливаемся.
Наконец я взмолилась:
— Николай Михайлович, мы сейчас видели точно такой же, а времени у нас немного.
Но Николай Михайлович вперял в меня безжалостный взгляд и оставался глух к мольбам.
— Надо, — говорил он категорически. — А вдруг...
И это непознанное для меня «вдруг» таинственно и необъяснимо двигало Николаем Михайловичем.
Его воображение поразили курганы в Туэкте. Мое тоже. Высокие горы камней, покрытые темной патиной времени и разноцветьем лишайников, они возвышались в тихой солнечной долине на окраине поселка Туэкта. Вокруг них расстилалось поле, и ветер волнами пробегал по не созревшему еще овсу.
Погребения такого типа давно привлекали внимание археологов. Еще в конце XVIII — начале XIX века их копал русский археолог П. К. Фролов. В 1865 году В. В. Радлов раскопал катандинские курганы, в 1911 году А. В. Адрианов исследовал погребения на реке Майэмире. Советские археологи продолжили эту традицию. В 1927 году М. П. Грязнов провел раскопки в долине реки Урсул. С. И. Руденко занимался алтайскими курганами с 1929 года, и это он в 1954—1955 годах раскопал первые погребения в Туэкте. И теперь почти каждое лето ведут работы археологи Новосибирска и Горно-Алтайска. Год за годом растет коллекция найденных реликвий... Чьи же останки скрывают эти погребения?
Их называют скифами, саками. В древности величали «грифами, стерегущими золото». Теперь все чаще осторожно называют ранними, кочевниками. Это были кочевники-коневоды. Европеидные по своему типу, они говорили на диалектах североиранской языковой группы. Они занимали огромную территорию евразийской степи от Карпат до Памира, Тянь-Шаня и Алтая. Это был целый кочевой мир со своей культурой, организацией, занятиями. Что же нашли в их погребениях? Вещи... Вещи, принадлежавшие мертвым, которые, по мнению живых, нужны были в «ином мире» так же, как и в этом.
Одежда, оружие, украшения, предметы домашнего обихода, конская сбруя. Керамика, ткань, кожа, дерево, бронза, золото, железо... Одна черта объединяет эти разные вещи — искусство. В искусстве господствовал единый стиль. Знаменитый «звериный» стиль кочевников евразийских степей. Тот самый стиль, который оставил свой след в культуре множества более поздних народов, от Китая до Европы. И именно в алтайских курганах этот стиль в течение ряда веков был представлен в наиболее чистой, классической форме. Многочисленные изделия, найденные в погребениях, были украшены изображениями животных. Олени, горные козлы, горные бараны, лоси, тигры, волки, лошади, орлы, петухи, лебеди... Фантазия древнего художника нередко сочетала в удивительных комбинациях животных и птиц. Поэтому у тигра вырастали крылья, а у орла — звериные уши. Но эти сочетания были столь художественны и гармоничны, что казалось — такие птицезвери существуют и в природе.
Появление «звериного» стиля некоторые ученые объясняют влиянием высоких цивилизаций стран Древнего Востока и их художественных культур. Да, кочевой мир евразийских степей был подвижен и деятелен. Пространства, отделявшие его от других народов, не были особым препятствием. Стремительные, лошади легко поглощали его. И кочевникам была знакома Передняя Азия, Иран, Индия и Средиземноморье. Оттуда приходили в степи и горы иные сюжеты и иные звери, иное мастерство. Но и это влияние не может полностью объяснить появления «звериного» стиля. Его истоки надо искать в самом мире кочевников, в том, что было характерным только для этого мира. И этим характерным была для кочевника лошадь. Та лошадь, на которую сажали его, как только он делал первые шаги по земле. Та лошадь, которая становилась для него на всю жизнь другом и уходила вместе с ним во тьму «иного мира». Та лошадь, с которой он сливался, когда стремительно преодолевал степные и горные пространства. Та лошадь, чьей силой, совершенными пропорциями он не уставал любоваться... Лошадь для него была всем, и через нее он постигал мир с момента рождения и до старости. И в этом многообразном и несущемся ему навстречу мире не было ничего прекраснее той же лошади. Лошадь становилась для него эстетическим мерилом. Он, как и его далекий предок, изображал зверей. Он вырезал их в дереве, ковал в золоте, выкраивал в коже, выкалывал на сильных "телах воинов. Но это уже были иные звери. У оленей по-лошадиному крупно раздуты ноздри., у птиц удлиненные конские глаза… Он перенес в них, не нарушая гармонии, стремительность и выразительность лошадиного бега. Он увековечил в них рельефность лошадиных мышц, завершенность линий ее тела. И этот метод изображения оставался для него неизменным. «Метод лошади», если можно так сказать. Этот метод, на мой взгляд, и породил особый стиль, «звериный». Существует удивительное единство художественного изображения в этом стиле. Только человек, ощутивший это единство своими мышцами и телом, смог так точно его передать.
Звери украшали и конскую сбрую. Лошадей украшали многие народы. Расписные и резные седла, шитые золотом чепраки, тяжелые накидные уздечки, узорчатые налобники. Но ни одно из этих изысканных украшений так не гармонировало с сильным и совершенным телом лошади, как сбруя, украшенная алтайскими древними мастерами. Мастерами-кочевниками. Эта гармония, мне кажется, и обессмертила «звериный» стиль...