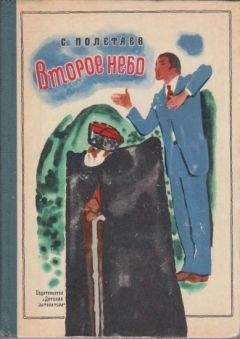За время путешествия по нашим заливным лугам можно опухнуть от небылиц. Природа, безусловно, играет большую роль в жизни заливщиков, и множество побасенок ходит у нас про дождь, жару, ветер и все такое. За последние годы засушливые времена случались частенько, и Лэм рассказывал, что в Окифиноки остались всего две рыбы. Они лежали на одном бревне и смотрели друг другу во влажно блестящие глаза, чтобы не погибнуть от жажды. До того было сухо, что Лэму приходилось набирать воды из колодца и отправляться в луга поливать крокодилов. Несчастные крокодилы! Если долю нет дождя, шкура у них на спине пересыхает и начинает страшно чесаться. Иногда, добавлял Лэм, когда становилось совсем худо и в колодце уже нельзя было зачерпнуть воды, чтоб спрыснуть крокодилов, ему приходилось чесать им спины. Для этого дела неплохо подходят садовые грабли на длинной палке. Одна только закавыка — крокодилы делаются такими надоедливыми, что плетутся за вами до самого дома и все просят и просят, чтобы их почесали...
Что до меня, я больше всего любил его рассказы об удачной рыбалке. Наверное, потому, что Лэм угостил меня одной историей в нашу первую встречу. На мой обычный вопрос, что ловится и как, он ответил:
— Клев превосходный. На днях сидел на берегу и набрал столько рыбы, что проделал даже дырку в воде.
— Ой ли?
— Факт. Наконец решил уж вытянуть приманку назад, как попалась такая крупная рыбина, что не могла пролезть через эту дырку...
— Ну и?..
— Я тащил и тащил, пока рыба не стала понемногу вылезать. Тут дыра вспучилась на два фута. Тогда и я решил — хватит, и кончил на этом...
Ну что ж, не пора ли и нам поставить точку?
Перевел с английского Б. Письменный
Лицо, шея и руки Кирилла были утыканы стальными иглами. Кирилл слегка напоминал дикобраза. В мои руки Лубсан тоже вогнал две острые иглы. «Для поднятия тонуса», — объяснил он с улыбкой.
Нас окружали древние тибетские фолианты, закутанные в цветные шелка, медицинские муляжи и диаграммы. На полу в углах комнаты живописно расположились шестеренки, карбюраторы, тормозные колодки. Запасные части к автомобилю давали представление о хобби хозяина жилища, атрибуты врачевания — о его профессии.
Гаваагийн Лубсан — врач восточного толка. Едва прибыв в Улан-Удэ, я наслышался о нем всяких чудес и сразу отправился на его поиски. Мне хотелось кое-что выяснить о целебных кореньях и травах. Бродя по тайге, я часто выкапывал разные корни, о целебной силе которых знал понаслышке. Даже и сейчас у меня в портфеле лежал один из таких корней.
Уланудэнец Кирилл, добиваясь у Лубсана приема, имел другую цель. Он мечтал избавиться от хворобы, которая его окончательно доконала. Кирилл кашлял, сипел и хрипел, как испорченный репродуктор. Его мучил чудовищной силы бронхит, который Кирилл заполучил в колючих пуржливых песках Гоби.
— В шаманство и мистику я не верю, — сказал Кирилл, блестя щетиной стальных игл, — однако без телепатии и гипноза дело здесь не обходится... Когда он втыкает в меня иглы, я слышу внутри себя голос: «Ты здоровеешь, ты здоровеешь!» Последние два года я гаечный ключ не мог поднять без одышки, а вчера из подвала двухпудовую гирю вынес. Выжать не выжал, но все-таки поднял до подбородка...
Я покосился на деревянного человечка, усыпанного роем подписей и множеством точек. На другом столе возле тома «Джуд-ши» (1 «Джуд-ши» — основной трактат, своеобразная энциклопедия тибетской медицины. (Здесь и далее примечания автора.)) стоял глиняный двойник этого человечка. Я сосредоточился на иглах, воткнутых в мои руки. От стальных жал по телу расходилась приятная теплота, и силы мои как будто заметно прибыли.
Перед встречей с Лубсаном я нашел немудрящий перевод «Джуд-ши». В одной из глав я прочел: «Тибетский врач должен иметь особый склад ума, обладать глубокой и сильной интуицией, иметь совершенное зрение, обоняние, слух». Не есть ли это указание на гипнотические способности?
За окном, раскрытым настежь, блестели мокрые от росы тополя.
За пестрыми квадратами крыш Улан-Удэ белел изгиб Селенги, дымный от утреннего тумана. В наш воскресный план входила поездка на Байкал или на берег Селенги. Кирилл пригнал к подъезду свой новенький белый «Запорожец», с помощью которого мы и надеялись отвлечь Лубсана от ежечасных и бесконечных хлопот. При удаче нас ожидали долгие часы неспешной беседы.
На Кирилла Лубсан смотрел почти с умилением:
— Ты, говоришь, жил в Монголии, Гоби видел?
Кирилл утвердительно закивал:
— Гоби исколесил вдоль и поперек.
Еще в рабочем кабинете Лубсана пять дней назад выяснилось, что Кирилл долгое время работал шофером в монголо-советской геологоразведочной партии. Мне кажется, что это и явилось причиной особого благорасположения Лубсана к Кириллу: дома доктор никого не принимает, за исключением близких друзей.
— Раз ездил по Гоби, то ведь и Убур-Хангай знаешь?
— Ну как же! — засиял Кирилл. — Возле Убур-Хангая мы дольше всего крутились. Там вроде что-то нашли в земле. Я даже в Улан-Батор ездил с образцами пород.
— Убур-Хангай моя родина, — сказал Лубсан. — Я не колесами, пешком истоптал Гоби. Совсем маленьким остался без отца-матери. Потом меня ламы взяли в дацан, в монастырь.
Но дацан Убур-Хангая вскоре пришел в полный упадок, монахи разбрелись по необъятной Гоби. Ушел и Лубсан. Обессилевшего, оборванного и грязного нашел Лубсана в Гоби советский доктор Назаров, бурят. О, это был замечательный человек! Золотое сердце и светлый ум. Он был совсем как добрый отец...
Нашей беседе мешали звонки телефона и частые посетители. Я предложил доктору:
— Эрдэмтэн (1 Эрдэмтэн — ученый, образованный (монгольск.).), автомобиль Кирилла стоит у подъезда. Может, нам в тайгу поехать? Посидеть возле реки, поискать в лесу целебные травы. Ведь сегодня выходной день, воскресенье.
Лубсан обвел вокруг себя рукой:
— Работы много. Охой, как много работы!
Эрдэмтэн хлопнул рукой по толстой рукописи (в ней было листов четыреста!):
— Писать надо! Много писать...
Потряс прибором, похожим на транзисторный радиоприемник:
— Регулировать надо! Махнул рукой на груду автомобильных запчастей:
— Машине ремонт надо... За травами в тайгу мне после много ездить надо. У, шибко много!
Как бы подкрепляя ссылку на занятость, загремел телефон. Доктора приглашали к больному.
С этой минуты маленький белый автомобиль Кирилла метался из конца в конец города. Далеко за городом заманчиво блестела прохладная Селенга, а мы парились в тесном «Запорожце». От солнечного жара размяк асфальт. Потное лицо Лубсана с прорезями длинных глаз отливало медью.
В понедельник утром я зашел в лабораторию тибетской медицины при Бурятском филиале СО АН СССР. Монтажники устанавливали сложнейшие электронные приборы, в особой комнате почтенный баабай (1 Баабай — старик (бурят.).) сортировал целебные коренья и травы. Баабай когда-то изучал тибетскую медицину в дацане. Сейчас он помогал ученым создавать фонд лекарственного сырья. Коренья и травы он раскладывал в коробки из-под ботинок. Коробок таких было сотни. Корни солодки, листья чертополоха, розовые лепестки шиповника, семена тмина, кора осины, даже куски какого-то дерева.... Я вспомнил кожаный хайрсаг (2 Хайрсаг — короб, ящик (бурят.).) ламы Чимитова, который увидел однажды в бурятском улусе. Все в этом хайрсаге было растерто в порошок и перемешано в различных пропорциях. «Задачки» — так назывались сложнейшего состава порошки, свернутые наподобие папирос трубочкой. Мой друг из села Красный Чикой рассказывал, что Чимитов с помощью таких вот «задачек» вылечил его отца от неизлечимой, казалось бы, падучей болезни. Он ездил к Чимитову вместе с отцом и видел, что лама-лекарь истолок в ступе тридцать шесть видов трав для «задачек» отцу.
— Так? А травы какие были? — навострил уши академический баабай и даже схватил карандаш, когда я ему рассказал про Чимитова.
Однако названий трав я не знал: легенда не тот жанр, чтобы донести до нас такие детали. От баабая-травника я перешел в другой кабинет, где ученые корпели над хитросплетениями глав «Джуд-ши». Научный сотрудник лаборатории кандидат медицинских наук Базарон сказал, что древние научные тексты местами похожи на лабиринт, в котором по неосторожности можно навсегда и безвыходно заблудиться. Немало рецептов дано древними тибетскими эскулапами в зашифровке. Например, такое: «Хан послал на помощь поверженному в ледяное ущелье трех лебедей, одну четвертую часть тигра, четырех лисиц». Похоже на сказку, а между тем в подобных фразах скрыты точные рецепты от вполне определенных болезней. Если сюда добавить трудность тибетского языка, то можно понять ученых, впадавших в разочарование при попытке сделать переводы рецептов. Читалось, к примеру, «наросты с кожи лошади» или «содержимое кишечника кошки», хотя первое могло обозначать целебный корень, а второе — листья какой-то травы.