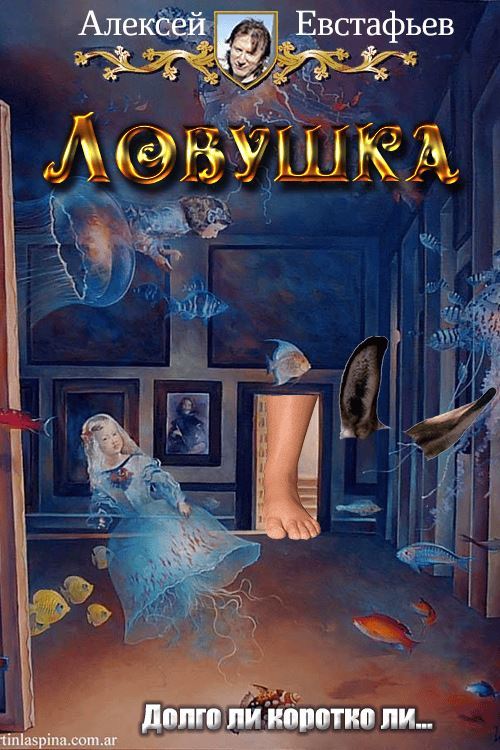набрала в рот воды, пока никто и глазом не успел моргнуть. Но тут вновь прибежали ученики-отличники с вёдрами и швабрами, затолкали лисичку в угол, защекотали — она выплеснула всю воду прямёхонько в вёдра, и потопа не получилось. Тогда Бармолей затеял вот что. «Притворись, лисичка, — говорит. — сиротой и сиди здесь на скамеечке, жалуйся на жизнь горемычную: мол, дружила ты с цыганкой, а цыганка тебя и сглазила. А когда прибегут ученики-отличники, чтоб тебе с бедой помочь, ты ручкой жеманно поверх бровей поводи и скажи: мол, помочь мне можно только одним. А они спросят: чем?.. А ты скажи: накушайтесь зелёными поганками, вот я развеселюсь, на это глядючи, и перестану быть горемыкой. А ученики-отличники тебе поверят и накушаются зелёных поганок. А когда помрут, то мы с тобой спросим у всех: испортили мы вам, ребята, праздник?.. И ребята скажут: конечно испортили, теперь мы тоже стали горемыками!..» Лисичка послушалась, села на скамеечку, скушала пирожное и заплакала, но тут пришла Марья Гавриловна и принялась журить Бармолея с лисичкой: «Зачем вы недобрый поступок с поганками затеяли? Нужно только добрые поступки совершать!» Спохватились Бармолей и лисичка, понурились грушами компотными: очень персонально чувствуют, что прямо сейчас их перевоспитание начнётся, но…
— Стойте! — ворвался в зал на жгуче-белом коне витязь, суровыми очами сверкая. — Остановитесь, братья и сёстры, ибо не празднику нам нынче честь отдавать! Война бураном снежным накатила: Абракадабр с войсками несметными ринулся на захват нашей земли!.. В крови погрязнем — чует моё сердце.
— Дурак ты, братец. — рассердились на витязя Игорь Дмитриевич с Максимом Павловичем. — Испортил праздник стопроцентной пошлостью: инкогнито из Петербурга, немая сцена, занавес…
Ан нет!! Ловушка-то взведена!! Витязь не солгал.
Больше всего на свете я теперь боюсь этого Абракадабра. Вороватый звон монеты, ударившейся об асфальт, хруст обёрточной бумаги из-под сливочного масла с застарелым запашком, взрывчато-раздавленный гнилой овощ подошвой сапога, внезапно запутанный механизм кремлёвских курантов — вот таким наваждением, вызывающим брезгливость, мерещится мне это имя, обволакивает, тяготит, обгрызает…
Десять лет — долгих десять лет — длится наша война с Абракадабром, и практически каждое утро я просыпаюсь с чувством панической атаки, которое впервые испытал ещё ребёнком, на школьном празднике. АБРАКАДАБР — дыра за дырой, сквозняки, сверло стоматолога, пчелиное жало, пивная отрыжка — немедленно хочется спрятаться от этого имени, скукожиться, скорчиться, врезаться телесной памятью в первый день рождения, в жутковатой и навсегда закреплённый в сознании момент перерезания пуповины, чтоб выплеснуться истерическим страхом (который, собственно, ещё и не постигаешь, как именно страх, ещё почти ничего и не знаешь об испуге, кроме тех ударов боли, от которых хочется жить ещё сильней), накричаться и утихнуть, забыться, а очнуться, когда никто больше не подойдёт к тебе и не обидит.
Мне часто снится сон, который когда-то, в детские годы, казался просто кошмаром, а теперь воспринимается, как приговор сансары, безысходность. Мне снится, что в мою комнату заходит какой-то серый дядька огромного роста, хватает меня за руку и тащит на улицу! Я упираюсь, я не хочу идти с дядькой, потому что он мне непонятен и страшен. Кусаю его за пальцы, впиваюсь зубами в его цепкую руку — а ему не больно, он лишь гаденько улыбается. А я не могу быть доподлинно уверенным, что причинил ему боль, что дядька вообще состоит из человеческой плоти — у меня от укуса остаётся что-то совсем пресное на губах, что-то влажно-тряпичное! А дядька улыбается похотливо, алчно… улыбается и говорит прохожим на улице, чтоб им было понятно, отчего этот мальчик ревёт и упирается: это сынок мой непослушный, я его заботливый отец! чтоб из пацанёнка безобразник не вырос, я его порть веду! шалит мальчик много!.. Но ведь он мне вовсе не отец, клянусь Богом, что он не может быть мне папой, поскольку страшен и омерзителен, и причиняет боль!.. И я кричу прохожим на улице: он мне не папа, не папа! не верьте ему! он меня из дома выкрал!.. А прохожие не верят, сердито качают головами, чуть ли не сами готовы меня выпороть… В детстве я всегда просыпался, вырывался из цепких лап этого кошмара с задавленным криком!.. Это был момент разрывающе-горькой внутренней обиды, личностного унижения от того, что ты знаешь, что этот мерзкий дядька не твой папа, и ты всем говоришь об этом, а они смеются и не верят. И тогда во мне нарастало чувство, подталкивающее к жажде возмездия, к желанию перетормошить всё человечество и освободиться от ответственности за вину, в которой ты не виноват… я не знаю, как это объяснить словами… мне просто хотелось, чтоб люди услышали мой крик, поняли отчего я кричу, и сами были наказаны за то, что не хотят мне помочь… А дядька-то этот был несомненно Абракадабром. Теперь я это понимаю. Несомненно.
Поскольку превращение из статистической единицы гражданского населения в статистического солдата сулило мне дополнительные жизненные страхи, то идея о дезертирстве появилась сразу, как только я получил повестку о призыве на военную службу. Впрочем, я тут же договорился с собой, что не буду называть это обстоятельство дезертирством, а буду называть вынужденным скитальничеством!.. Но для начала решил законными методами получить справку о негодности к службе по состоянию здоровья. У моей подруги Танечки оказался в дальних родственниках главврач элитного учреждения по лечению и профилактике психиатрических заболеваний. Вскоре я получил направление в спецсанаторий на обследование. Главврач пообещал через месяц выдать долгожданную справку.
Несмотря на статус аристократичности, санаторий оказался местом неуютным, ужимистым, скучным. Медперсонал отличался излишней подозрительностью и придирчивостью до мелочей. Кормили плохо. Из всех возможных щелей санитары подглядывали за пациентами, неустанно вели записи наблюдений, пичкали лекарствами, эффект от которых был совершенно непонятен.
Пациенты, в основном, были мало разговорчивы и бездеятельны. Лично меня очень привлекал третий этаж санатория, где находились палаты для излечивающихся ипохондриков. Среди них оказался с десяток бывших председателей парткомов, райкомов и горкомов. Довольно замкнуто, но добродушно проходили курс лечения несколько разведчиков-нелегалов, прибывших со службы из стран Варшавского Договора. Присутствовали иностранные граждане, главной целью которых являлось не профилактика психического здоровья, а укрытие от посторонних глаз. Я сумел немного подружиться с лидером одной из афганских группировок моджахедов, сдавшимся в плен и именующим себя Усамой бен Ладеном. Всего за пару недель пребывания в санатории он наловчился прекрасно изъясняться по-русски. Скоро стал захаживать в небольшую церквушку, расположенную неподалёку от санатория, в пригородном посёлке. По вечерам ловил рыбку в тамошнем пруду,