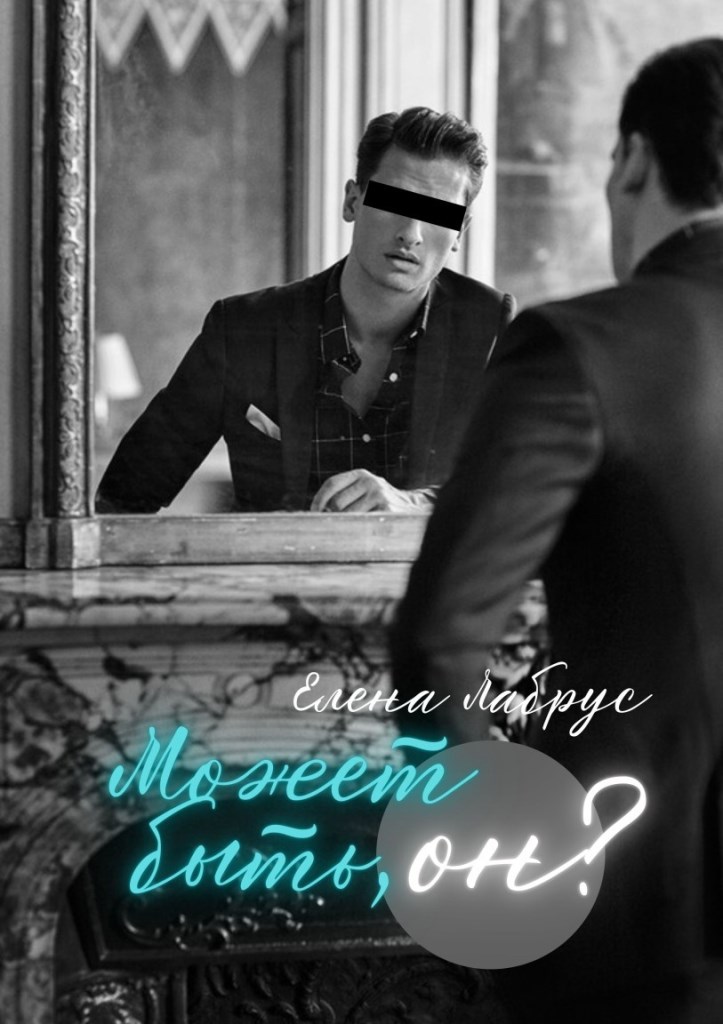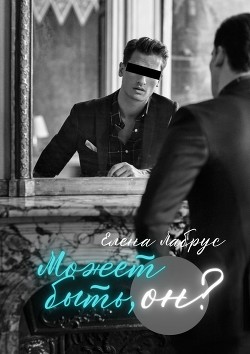её в нашем доме не было, — звучал голос его жены одновременно стервозно и плаксиво.
Что ей ответил Дмитрий Сергеевич Гринёв мне услышать было не суждено.
Я едва успела подняться в свою квартиру, когда в дверь позвонили.
— Какого чёрта? — выдохнула я.
— Что, прости? — приподнял бровь Урод, рассматривая меня с интересом.
— Какого чёрта ты припёрся? Сюда? Ко мне? — перегородила я проход, не позволяя ему войти. — Ты сказал: я буду приходить, когда ты скажешь, куда ты скажешь, и раздвигать ноги. О том, что ты будешь приходить сам, уговора не было.
Во мне ещё кипел праведный гнев и неожиданные открытия сегодняшнего дня настолько сбили с толку, что я не только забыла про Урода, я забыла, как опасно с ним спорить.
— И всё же я здесь, — смотрел он исподлобья. — И либо ты откроешь дверь, либо мне придётся её выбить, но я войду. Во всех смыслах этого слова.
Он стоял, засунув руки в карманы. И был похож на айсберг. Холодный и равнодушный. Но я знала: он — вулкан. Закипающий и вот-вот готовый извергнуться. Во всех смысла этого слова.
Я даже не успела сделать шаг назад, когда дверь шарахнулась о медный упор, прикрученный к полу, а мои лопатки — о стену.
Рука Урода сжал мою шею. Глаза горели, словно хотели испепелить. Тяжёлое дыхание обожгло.
Я упёрлась руками в его грудь со всей силы на какую была способна и прохрипела:
— Нет.
— А мне, кажется, да, — заскользил он носом по шее, по щеке, вдохнул мой запах, набрав воздуха в грудь и… впился в губы поцелуем. Порывисто. Жадно. Грубо. До боли.
Когда опешившая от неожиданности, от потрясения, от затопивших сознание: «Но это же… особенное… Он же…никогда…» я забыла, что надо сопротивляться, Урод словно одумался, и уже не терзал — целовал, дразнил, ласкал языком. А затем бряцал ремнём и нетерпеливо срывал с меня одежду.
Он взял меня прямо там у стены, лягнув ногой хлопнувшую дверь.
Взял жёстко. Грубо. Самозабвенно. Думая лишь о себе.
Но я чувствовала лишь его губы. Его пахнущие табаком требовательные губы и, кажется, сходила с ума, не в состоянии ими напиться, насытиться, насладиться. Мне было их мало, мало…
Урод не произнёс ни слова. Ни одного жалкого слова. Ни одного скупого звука. Не застонал, не закряхтел, кончая в меня долгими мучительными толчками, хотя мне всегда так нравилось его «м-м-м…», когда уже ни одна сила в мире не могла его заставить остановиться. Но сегодня я простила ему и это. Он меня поцеловал, чёрт возьми!
Сегодня я простила ему всё. И всё позволила.
Даже то, чего он не собирался делать: раздеваться, оставаться, помогать с ужином и обнимать меня во сне.
Я и не знала, что он может быть таким — нормальным. Похоже он и сам не знал.
Я не думала, что буду плакать, глядя на него спящего. Беззащитного. Тёплого. Тихого.
Я и не представляла, что вызываю у него столько чувств. От дикой страсти, граничащей с яростью, когда он брал меня на кухонном столе, столкнув на пол только что приготовленный ужин. До мучительной нежности, когда его начинало потряхивать, едва он вдыхал мой запах.
Ни подгибающиеся ноги. Ни тупая ноющая боль внизу живота. Ни трясущиеся руки, взрезающие ногтями кожу на его спине. Ничто. Ничто не имело значения. И не значило так много, как его губы, вдруг разомкнувшиеся для меня, словно оковы, скрывавшие вход туда, где его пыльной одинокой душе так не хватало тепла.
Наверное.
Я не могла сказать точно. Я ведь придумала его себе. Таким, каким хотела видеть.
Я придумывала его себе, скользя пальцами по шрамам на его спине. И эти шрамы, словно от плетей, и ожоги на ягодицах, словно от сигарет, я тоже себе придумала. Я дорисовывала то, что хотела в нём видеть: ангельские крылья к дьявольским копытам, злую ненавидящую мать к детской безусловной любви, жестокого насильника-отца к безупречной тевтонской наследственности. Я дорисовывала его, чтобы вписать в свою картину мира, куда как в прокрустово ложе он мог войти. Дорисовывала, спиливая рога, потому что принять таким, как есть, не могла.
Не могла. Не умела. Не знала как.
— Странно, — сказала я, наивно ластясь к Уроду с утра, совсем забыв, что лежу на груди у дикого зверя, а не у домашнего питомца. — Его жена сказала, чтобы ноги моей в их доме не было, — рассказала я ему про Гринёвых. — Даже если он спал с моей матерью, чем я перед ней провинилась?
— Спал с твоей матерью? — схватил он меня за подбородок, разворачивая к себе, заглядывая в глаза. И засмеялся. — Ты уверена, что он спал с ней сейчас? А не двадцать лет назад?
— Что? — замерла я. Не чувствуя ни его рук, скользящих по моему телу и упорно стягивающих вниз, ни тяжёлой набрякшей плоти, заскользившей по моим губам.
— Детка, ты нужна мне здесь, — пощёлкал он пальцами и показал на свой пах.
«Да, сосать», — машинально кивнула я, открывая рот.
И заглатывая его член на всю длину, обхватывая ладонью, сжимая пальцами, давясь и подчиняясь, я смотрела сквозь выступившие слёзы на красивые синие вены на его животе и всё думала: «Гринёв мой настоящий отец? Гринёв?! Не может быть».
— Ты можешь что-нибудь оставить, — кокетничала я, провожая Оболенского в прихожей.
— Я уже оставил, — натягивая куртку, посмотрел он на мой живот.
— Что-нибудь ради чего ты можешь вернуться. Типа забыл.
— Считаешь, мне нужен повод? — улыбнулся Урод.
— Почему нет? — крутила я задницей, стоя перед ним в маечке и коротеньких домашних шортиках.
— Потому что нет, — подтянул он меня к себе.
Я подняла лицо, подставляя ему губы. Он усмехнулся и больно сжал сосок.
— Ты знаешь, что даёшь меньше, чем берёшь?
— Хочешь меня наказать? — скривилась я. Соски и так болели.
— Только это тебя пока и спасает от