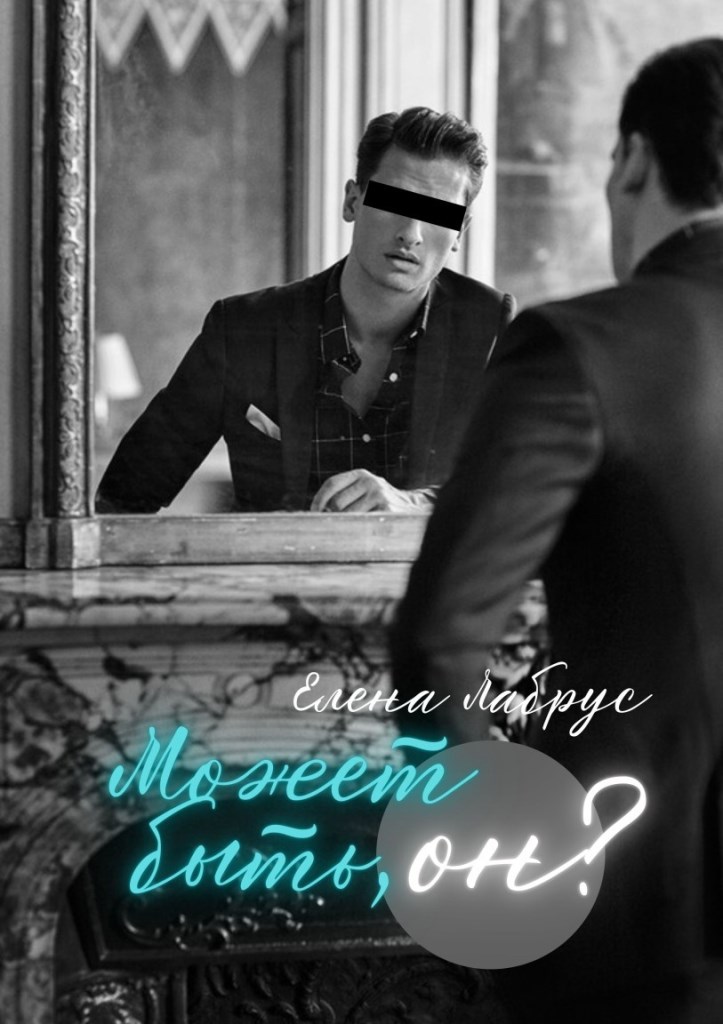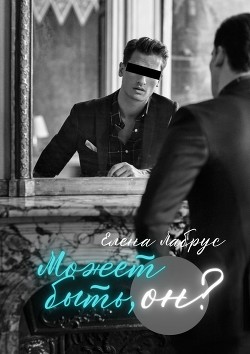того, чтобы мне не наскучить.
— Я тебе не наскучу. Я чёртова Шахерезада, что обрывает сказку в самый интересный момент, — схватила я его руку, доставляющую мне сейчас столько страданий.
— Ты родишь мне ребёнка, — сверкнули привычным холодом его глаза.
Он убрал руку. Я вздёрнула подбородок:
— И всё, больше ничего?
Он долго смотрел на меня. Молча. Так долго, словно боролся сам с собой и никак не мог решить: уйти или остаться. Или не знал, что мне ответить. Или…
Нет, в те сумраки его души, где он прятался за ледяным взглядом и нахмуренными бровями мне было не спуститься. Или не выбраться оттуда живой. Поэтому я просто ждала.
— Я приду, когда сочту нужным, — сказал он. — Правила ты знаешь. Ничего не изменилось.
«Чёрта с два! — улыбнулась я. — Всё изменилось. Ещё как изменилось».
— Слава, — позвала я, когда он открыл замок.
Урод замер. Медленно повернулся.
— И всё, больше ничего? — повторила я. — Ты хотел, чтобы я стала твоей женой. Теперь хочешь ребёнка. И ты меня целовал.
По его красивой шее прошёлся острый кадык, когда он сглотнул.
— Ты чёртова зараза, которой я болен, — усмехнулся Урод. — И всё, больше ничего.
Дверь за ним закрылась.
А я так и стояла, улыбаясь.
Он меня целовал. Целовал! В губы!
Я ему нужна, как бы он ни упирался.
В таком настроении я и пошла открывать сейф.
И готова была найти что угодно. Даже хотела найти что угодно: мамину переписку с Гринёвым, какие-нибудь фамильные тайны, секреты, скелеты — хоть что-нибудь.
Но сейф был доверху забит деньгами.
Я несколько дней ходила как пьяная, периодически открывая сейф и проверяя, не померещилось ли мне.
Туго спелёнатые банковской лентой пачки лежали плотно, впритык.
Иногда я вытаскивала наугад доллары. Но в основном, судя по корешкам, были рубли. Дед получил премию, не Нобелевскую, конечно, но тоже престижную. Наверное, эти деньги были оттуда.
Первый шок медленно перешёл в радость. Детскую, давно забытую, ничем не замутнённую радость, как он подарка под ёлкой, пусть в нём всего лишь мандарины и конфеты.
Радость — в ощущение свободы.
Затаив дыхание, я, почти забывшая, что такое есть досыта, привыкшая считать, что покупать и сколько остановок идти пешком и ломавшая голову, как совместить учёбу и работу, теперь могла об этом не думать — и сердце заходилось от восторга.
Теперь я точно могу уехать. В другой город. Другую страну. Поступить в другой университет. Где там в Париже преподают медицину? В Декарте?
Неожиданно открывшиеся перспективы кружили голову.
Но потом мысли сменились другими, более прагматичными, приземлёнными.
«А хочу ли я уезжать? И так ли боюсь забеременеть?» — отложила я зачитанный до дыр учебник по гинекологии и завалившись на подушки, уставилась в потолок.
Чувство было такое, словно я объелась сладким и у меня никак не получалось переварить съеденное: своё неожиданное богатство, сомнительное отцовство Гринёва, откровения Оболенского.
Дни стояли жаркие, словно лето не желало уступать свои права осени и в последние дни августа оно напомнило о себе зноем. В распахнутые окна доносился шум города: машины, люди, трамвайный звон.
В голове гудело. Может, от этого вечернего шума. Может, от недоваренных мыслей, как в медленно кипящем котле. Но как их доварить?
Почему меня не радовало, что, возможно, у меня есть отец? Не хотела другого отца? Не хотела такого отца ? Или просто не нужна мне лишняя сумятица в жизни: пусть бы уже шло как шло. Он не хотел меня знать столько лет, так почему я должна из-за него беспокоиться.
Почему деньги словно лишили меня сил и желания к чему-либо стремиться? Вместо подъёма теперь я чувствовала себя обессиленной и не хотела ни медицину, ни французский, не хотела даже шевелиться: «А зачем?».
Почему про Оболенского я теперь думала, как о своей собственности? Раньше мечтала, чтобы он оставил меня в покое, а теперь хотела знать о нём всё: как он, с кем, что у него на работе? Где он, чёрт его побери? Хотела быть его женой. Защищать, любить, заботиться о нём. Хотела дышать с ним одним воздухом, любить то, что любит он. Стать такой, как хочет он. Стать той, что он никогда не сможет бросить. Его неизлечимой болезнью.
Я задремала и проснулась от крика. Словно кто-то меня звал.
Подскочила к окну. На улице уже совсем стемнело, но из-за шторы в свете фонаря мне была видна группа парней.
— Захар, не надо. Не рви ты душу, — услышала я. — Пошли. Не стоит оно того.
Двое, подхватив третьего, пошли прочь, пьяно пошатываясь.
Захар? Я всматривалась в темноту. Но уже ничего не могла разглядеть.
Почему я не дала ему слово? Зачем не выслушала? Почему он не захотел оправдываться?
В душе скребло, и как бы я не гнала эти мысли, но что-то не сходилось. Может, надо было догнать его сейчас? Но Захар ли это был или мне так хотелось? Да и стоило ли лезть к пьяным?
Что мне точно требовалось — это прогуляться. Я выглянула в другое окно, окно маминой комнаты, единственное, что выходило во двор, пока натягивала штаны. Там в свете лампочки от подъезда понуро стоял с собакой на поводке мальчишка. Я его знала. Он учился в моей школе. Жил в моём доме. И гулял здесь с собакой каждый день.
К тому времени как я вышла, он забрался с ногами на лавочку. Сел на спинку. И выглядел ещё меланхоличнее. Словно птица на проводах.
— Привет! — остановилась я у его задумчивой, как сидящий памятник, фигуры.
Он удивлённо поднял голову, встрепенулся.
— Привет.
— Я Настя.
— Я знаю, Ланц. Мы вместе учились.
— Выглядишь одиноко, — села я рядом. — О чём задумался?
Он горько усмехнулся.
— Ну-у-у, не очень приятно осознавать, что с тобой готова гулять только собака, да и то лишь потому, что хочет срать.
Я посмотрела на него с интересом. Высокий, худой, спортивный. Ещё по-мальчишески угловатый, но уже