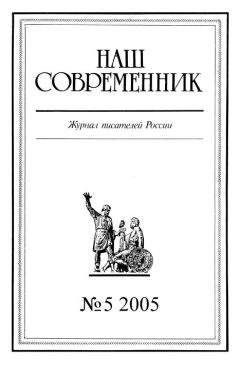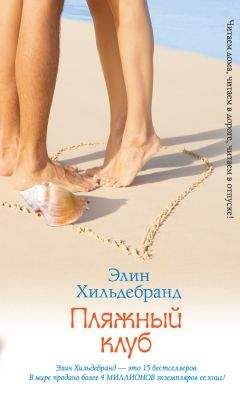Дом, в котором я провел лето 38-го года, стоял напротив шолоховского, через дорогу. Ни того дома, ни той улицы уже не было, река сильно подмыла берег, а румынская артиллерия разрушила усадьбы, и теперь двор Шолохова заканчивался песчаным обрывом. Берег обваливался, и в этом месте он был густо обсажен тальником, вербами, укреплен плетнями.
С берега, от дома Шолохова, открывалась излучина реки. Погода была пасмурная, похоже, вот-вот пойдет снег.
Шолохов недавно закончил строительство двухэтажного соснового сруба. Как и зеленоглавый собор на площади, этот веселый оштукатуренный белый дом первый открывался каждому, кто на пароходе или автобусе подъезжал к Вешенской со стороны Базков. Старый, довоенный дом с мансардой, который я хорошо помнил, Шолохов продал райисполкому, и он пошел на строительство клуба.
Сразу же, как только пройдешь прихожую, налево — кабинет, в котором хозяин принимал гостей и не работал (рабочий кабинет был наверху). А здесь разбиралась почта. Бандероли, перетянутые крест-накрест шпагатом, в пакетах и свитках, пачки писем, книги грудились на столе, на двух подоконниках. Секретаря не было.
Возле дивана, на полу, лежала шкура дикого кабана, редкого зверя в здешних степных местах, убитого Шолоховым в пойменном лесу. Комната не отапливалась. Вошел хозяин в свободной вельветовой тужурке и белых фетровых, на кожаной подошве, валенках. Он был в приподнятом настроении, встретил гостей улыбкой, приветливыми словами, усадил с явным желанием побеседовать.
Закончился Второй съезд писателей. Шолохов на нем с горечью и юмором пополам говорил о скороспелых лауреатах, обвешанных медалями, чьи произведения, однако, далеко не отличались высокими художественными достоинствами. Прежде всего он имел в виду Константина Симонова, о котором в литературных кругах говорили с иронией: «От славы бедняга преждевременно поседел…». (В то время популярному литератору не было и сорока. Я видел его в Переделкино в открытом лимузине по дороге в Москву с газетой в руках, которую он внимательно просматривал, видимо, не успевая это делать дома, а в Литинституте — на встрече со студентами. Почему-то запомнилась несущественная деталь: вставая из-за стола, Симонов этак непринужденно, на виду зрительного зала, подтянул штаны.)
На съезде с Шолоховым поспорил писатель Гладков. А в заключение, примиряя стороны, выступил поэт Сурков. Тогда об этом сложили шутливую поговорку: «Съезд начался шолоховато, проходил гладковато и закончился сурковой массой».
Шолохов заметно волновался, достал из кармана и прочитал только что полученное письмо от белорусского поэта Якуба Коласа, в котором тот писал примерно так: «Дорогой Михаил Александрович! Ваше выступление было самое яркое и впечатлительное. Я во всем с вами согласен, знаю, что и в „верхах“ такого же хорошего о нем мнения».
Шолохов рассказал и о XIX съезде партии, делегатом которого был, и тут не обошлось без ядовитых замечаний уже по поводу сельского хозяйства. Прошло около десяти лет после войны, колхозы постепенно оправились от разрухи, всё больше получали техники, требовались какие-то коренные преобразования, а их не было. Что имел в виду писатель под «коренными преобразованиями», он не пояснил.
От райкомовцев я знал, что Шолохов постоянно интересовался районными делами и много делал для колхозов, известна его роль в период коллективизации на Дону, его тревожные письма Сталину о кампанейщине и перегибах. Райкомовцы постоянно, по несколько раз на неделю, приходили к нему за советом и помощью, как, в свою очередь, и он часто наведывался в райком, выступал на пленумах и конференциях, звонил в министерства, добивался нужных машин и материалов для села. Благодаря своему авторитету он делал столько, сколько не мог сделать никакой секретарь. Зачем?
Как он относился к Сталину, осталось загадкой. Шолохов далеко не всегда был откровенен. Сдержанность — черта его характера, и вместо ответа на иной вопрос часто играла лукавая улыбка на губах. Много скорбных слов было произнесено в речах, напечатано в газетах о похоронах Сталина, но я не слышал более смятенного душевного крика, чем тот, который вырвался из груди Шолохова по Ростовскому радио.
* * *
Сетраков просто, непринужденно говорил о районных делах. Я же никак не мог избавиться от скованности, волновался, торопился при установке фотоаппарата, выдвижной штатив «хромал» то на одну, то на другую ногу. Наконец знаменитый вешенец попал в объектив. Я боялся недодержать снимок, истратил половину пленки и все-таки, как обнаружилось при проявлении, недодержал, хотя Шолохов позировал серьезно, оправил костюм, подкрутил усы и предоставил возможность щелкать затвором сколько угодно.
Сетраков говорил с писателем о простых предметах, подчас неинтересных. Я завидовал этой непринужденности, но считал, что с Шолоховым нужно говорить только о значительном, что могло бы обогатить его жизненный опыт (словно ему не хватало собственного). Я заметил, что он с любопытством слушал рассказ о рыбалках на Дону, о том, что казаки гибрид сазана с карпом, который в то время во множестве пришел в верховья Дона из недавно заполненного Цимлянского водохранилища, окрестили «горбылем» и «румыном». «Румыном» потому, что в войну на правом берегу стояли румыны. (Вешенскую они так и не взяли, но обстреливали, во дворе Шолохова упала бомба, погибла его мать.)
Волнуясь, довольно сумбурно, я рассказал о случае на Тереке, возле станицы Шелковской, где квартировал наш полк в первый послевоенный год. Это место славилось змеями и комарами. Весною во всех дворах дымили костры, и без ветки, отмахиваясь от въедливых насекомых, нельзя было высунуть нос на улицу, а змеи то и дело переползали дорогу, по которой офицеры ходили в сельскохозяйственный техникум, где временно размещались солдаты. Однажды я замер в оторопи: идущий впереди лейтенант вдруг побежал во весь дух, вслед ему колесом метнулся желтобрюх.
В свободный день я собирал с женой в перелеске землянику и неожиданно увидел на кусте, на уровне лица, длиннющую темно-зеленую змею, пристально и давно наблюдавшую за мной сквозь листву. Я сделал шаг назад, достал из кобуры пистолет, прицелился. Змея не изменила положения, смотрела черными гипнотизирующими глазками. Выстрелил. Змея не шелохнулась, пуля пролетела мимо. Снова выстрелил, и на этот раз попал в голову, распорол, как ножом, на полметра, и тварь безжизненно обвисла на кусте.
Поведал я об этом случае, зная, что Шолохов охотник и, возможно, ему будет интересно. Слушал он внимательно, иногда взгляд его загорался, глаза щурились, но трудно было понять, как он относится к рассказу — серьезно или с иронией. «Тоже мне — охотник на змей! — подосадовал я. — Молол чепуху».
Разговор перешел на литературную тему, о трагической смерти Фадеева («Говорят, пил много», — заметил я. Шолохов подтвердил). Известный в то время роман писателя Ильи Эренбурга «Буря» не одобрил: «Военные статьи у него лучше получались».
Я перебрал несколько рукописей и книг из последней почты, сваленных на подоконнике: английское сокращенное издание романа «Тихий Дон» и на японском языке «Поднятую целину». Читать японскую книгу, к моему удивлению, следовало с конца. Было несколько книг с автографами авторов, но больше рукописей. Прямо-таки гора.
— Когда же вы успеваете отвечать? — спросил я, сочувствуя обремененному почтой писателю.
Шолохов развел руками.
— Хоть на части разорвись!
Я возьми и брякни:
— А как же Горький успевал?
— А! Он уже не писал, был старый. Да и почты тогда было меньше. Народ не так увлекался писаниной, как сейчас.
Я вызвался помочь: попросил некоторые рукописи домой прочитать и потом сообщить об их достоинствах и недостатках. Хозяин с готовностью отобрал увесистую пачку и даже пьесу на украинском языке. Я сказал, что родился и вырос в России, языка украинского не знаю.
— Ничего. Разберешь! — Он энергично вложил пачку в мои руки: мол, назвался груздем, полезай в кузов.
Держался просто, был разговорчив, весел. Но я уже знал и другого Шолохова. По журналистским делам никак не мог застать его дома, уже в семь утра тот куда-то исчезал. Но, может быть, работал и не велел домашним тревожить. Я решил подкараулить Шолохова у тыльных ворот, в которые обычно въезжали машины. А требовалась подпись под его выступлением на партийной конференции, редактор газеты почему-то на этом настаивал. Хотел таким образом заполучить автограф? Я проторчал часа полтора, собрался уходить, когда подкатил зеленый ГАЗ-67. Из-под брезентового тента выглянул хозяин:
— Ты чего здесь?
— Да вот нужна ваша подпись!
С недовольным видом он взял страницы и, не читая, небрежно, как-то по-барски черканул свою фамилию.
Потом я узнал, что охота была неудачной. За весь день ничего не убили, а на обратном пути, под вечер, встретили стаю уток. Они отдыхали на болотце после длинного перелета. Шолохов приказал шоферу остановиться, достал ружье, прицелился, но не выстрелил.