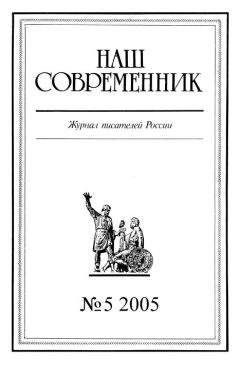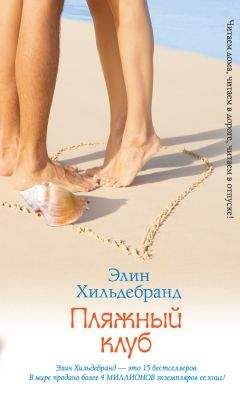— Мы здесь погибнем.
— Что делать?
— Выход один: прыгай в воду и плыви до берега, а я за тобой!
Громославский посмотрел вниз: там играло такое яроводье, что если прыгнуть, то сразу пойдешь на дно, как топор.
— Не могу, — отказался наотрез.
— Что значит «не могу»? Прыгай, пока еще в силах!
— Куда же прыгать? Посмотри, что там делается, Миша. Крутит и вертит.
— А здесь мы всё равно погибнем. Прыгай, если не хочешь кормить раков на дне.
— Потону.
— Прыгай, говорят тебе! Не тяни.
Шолохов достал пистолет, наставил на Громославского: «Коли не прыгнешь, выстрелю!» И такими глазами посмотрел, что у шурина руки сами собой разжались, и он бултыхнулся в воду. И выплыл. Шолохов — за ним. Выбрались на берег, бегом до первой хаты, выпили спирта, залезли на печку, и даже насморк не схватили.
— Вышел я среди ночи во двор до ветру, — рассказывал Громославский, почему-то подмигивая, — подбежал к берегу, сунул палец в воду… бррр! Как выплыл — не пойму.
В мае Шолохову исполнилось пятьдесят лет. Отмечал он юбилей в Москве, а Вешенскую затопили поздравительные телеграммы и письма со всех концов страны. Начальник местной почты, мой знакомый по рыбалке, показал на бумажный ворох. Тут были телеграммы в одну фразу, с пожеланием жить до ста лет, и восторженные на нескольких бланках.
После юбилея Шолохов приболел и лежал в «Кремлевке». Осенью на партийной конференции я увидел его всё так же просто одетым, в кожаной тужурке, фуражке, сапогах, и спросил, как здоровье, что лечили в больнице.
— Сердце и печень.
У меня тоже побаливало то и другое. Верно, от курева и однообразной грубоватой еды: мясо, яичница, сало, как принято у казаков. Он спросил, чем лечили.
— Кололи стрихнин… Перехожу на молоко. — Шолохов улыбнулся.
В то время он жил скудновато, ничего нового не печатал, задолжал издательствам, беря авансы под будущие романы, и держал разную живность в хозяйстве. Я в одном не очень дальнем колхозе брал интервью у председателя. На кошаре в машину грузили несколько упитанных овец.
— Куда это? — поинтересовался собкор.
— Шолохову. Его овцы. Паслись у нас летом.
— Приехал домой с войны, а на сберкнижке всего-навсего триста рублей, — посетовал писатель мне. — А за них тогда и пуд муки не купишь.
Между тем ходили слухи о миллионном банковском счете Шолохова, о личном самолете. И он получал письма с просьбами: «Дорогой Михаил Александрович! Подходит очередь на „Победу“. Не хватает тысячу рублей. Пришли, пожалуйста».
— Пишут как какому-нибудь купчику, — посмеивался Шолохов. — А того не знают, что этот купчик сам в долгах, как в репьях!
* * *
Истекал второй год моей жизни в станице Вешенской. Не так уж редко общаясь с Шолоховым, я даже не намекнул ему о своих писательских делах, стеснялся, как и в тридцать восьмом году отроком, когда наотрез отказался показать тетрадь своих стихов, на чём настаивал отчим. А между тем содействовал многим посещающим Вешки литераторам в знакомстве с знаменитым соседом, и те без зазрения совести вручали Шолохову книги или рукописи, просили помощи в издании или в приеме в Союз писателей. Но было и по-другому. Ростовский писатель Соколов, автор романа «Искры», объемом соизмеримого с «Тихим Доном», мужчина двухметрового роста, дрожал как осиновый лист, допытываясь у меня: «Как Миша, строг? А в какое время лучше к нему заглянуть?» Был и москвич Владимир Успенский, которому Шолохов дал рекомендацию в Союз писателей. Впоследствии он снискал известность двухтомным романом «Тайный советник вождя». С вешенской поры между нами установились теплые отношения на многие годы.
Я уже нажил в станице друзей, и мне передавали: Шолохов спрашивал секретаря райкома Сетракова: «Как там наш собкор? Что-то давно не видно». «Да он с почтовиком рыбачит на том берегу, в излучине, подальше от Вешек. Заядлым рыбаком заделался, Михаил Александрович». Шолохов ухмылялся: «Это хорошо. Меньше будет писать критических статей по нашему району».
А рыбы в Дону появилось пропасть. Из Цимлянского водохранилища пришла прежде неизвестная сеньга, поначалу считалась сорной рыбой, а со временем, повзрослев уже, не уступала знаменитому донскому рыбцу.
В станице не было колхоза, и одни казаки промышляли рыболовством, другие — речной ракушкой, которая шла на перламутровые пуговицы. Напротив станицы, словно эскадра на рейде, — десятки каюков на якорях с согбенными фигурами рыбаков. Иной удачливый выуживал за день до сотни горбылей.
Я тоже увлекся рыбалкой: вспомнил новороссийское детство, себя на молу с закидушками, куканы голубых окуней и ставридок, которые приносил домой и вручал бабушке, а та с восторгом говорила: «Наш кормилец». Я смутно представлял свои обязанности в будущем, мне доставляли удовольствие ловля, охотничий азарт, а не какие-либо материальные выгоды, хотя и гордился своим вкладом в общий семейный котел: всё же не впустую бартыжал (выражаясь языком той же бабушки) по черноморским лагунам и пристаням.
И теперь вошел в азарт: забросил не только литературу, но и журналистику, за что мог получить крепкий нагоняй из редакции. Затемно (часа в три) я уже был у каюка, где меня ждал почтовик, зараженный рыбалкой не меньше моего и считавший себя в каком-то смысле причастным к корреспондентской работе. Кроме доставки газет и писем он информировал меня обо всех интересных событиях в районе… Садились в плоскодонку и отплывали по течению к Базкам. Здесь, в излучине реки, почтовик высаживал меня на берег, а сам отгребал посудину на стрежень и бросал якорь.
Сколько забот появилось, Бог ты мой! Добыть для лески крепкую и не очень толстую жилку, чтобы не отпугнуть хитрого горбыля. А лесок набиралось до десятка — на сеньгу (жилка потоньше), на сома (потолще), на судака — удилище и т. д. Без сачка и не забрасывай удочку: рыба крупная, не всякая леска выдержит, если попытаться выкинуть добычу на берег.
Без приманки тоже не рыбалка. Лучше всего годился на это жмых, замешенный на мякоти ржаного хлеба и глины. С вечера лепились увесистые, в два кулака, ядра, которые забрасывались в воду поближе того места, где веером ложились донки. Некоторые рыбаки подвязывали жмых и к грузилу.
И случалось разное. С крутого левого берега (в районе Вешенской, вопреки законам природы, правый — отлогий), на излучине с водоворотами и отмелями я неожиданно выхватил из воронки сразу две рыбины. Это была сеньга. Тут же, сняв улов с крючков, снова забросил леску в завихрявшуюся у берега воду и снова вытащил пару. За какой-нибудь час сачок заполнился доверху. Осталось загадкой, чем воронка привлекла сеньгу.
На половине дороги от Вешек к Базкам, уже на правом отлогом берегу, подцепил удилищем килограммовую стерлядь, самую ценную у казаков рыбу. На крючок она никогда не шла, обычно на нее ставили треугольные сети на песчаных перекатах. Промышлял здесь частенько и Шолохов. Кроме того, был у него огромный бредень, чуть ли не на пол-Дона. Кое-когда им пользовалось районное начальство. Ночью, подальше от посторонних глаз, секретарь Сетраков, председатель райисполкома Пузиков и еще несколько подручных, в том числе и я, забрасывали бредень в Прорву. Выволакивали на берег полный кошель рыбы чуть ли не всех обитавших в реке пород.
Щук казаки не ели (глотают лягушек и ужей), как, впрочем, и раков (питаются падалью). Попавших в бредень щук предложили «москалю». Я не отказался. Мама, приехавшая ко мне погостить (потянуло в Вешенскую, вспомнила молодое житье-бытье в соседях с Шолоховым), нафаршировала рыбу, как это искусно делают южанки, и получилось блюдо — пальчики оближешь!
Вверх по течению реки на правом берегу я облюбовал местечко (подальше от станицы: на взгорье белели лишь крайние курени) и частенько сюда наведывался. Рыбачил в одиночестве. Леску из витых капроновых нитей с наживленной ракушкой я закидывал на сома. Но сом не брался, а вытащил судака едва ли не во весь свой рост, чем привлек внимание пассажиров проходившего мимо дизель-электрохода. Они дружно захлопали в ладоши, приветствуя удачливого рыбака.
А неизвестный водяной неожиданно, без клева, рванул леску и утащил удилище. В этот раз я рыбачил с лодки и, как ни колесил по реке, надеясь, что бамбуковое удилище всплывет, — безрезультатно. Вот уж, право, «как в воду кануло».
* * *
По вечерам, устав писать за столом, я выходил прогуляться по берегу реки. Стояла поздняя осень. Погода была пасмурная, похоже, вот-вот пойдет снег. На Дону пусто: ни парохода, ни лодки, дебаркадер увели в затон. От зеленоватой воды веяло холодом. Верховой ветер нагонял волны. Они шумно плескались о ледяные окраинцы берега. Оголились пойменные леса, лишь кое-где на молодых деревьях еще трепетали желтые листья. В распутицу или снежные заносы редко сюда пробьется машина.