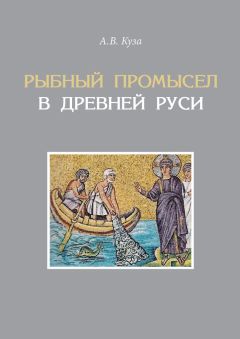Маэстро начал совершать «обряд». Тщательно приготовил свой стул, определил место моего стула — сзади от себя в полутора метрах, сел, положил палку к ногам и повернулся вполоборота ко мне.
— Что будем слушать? — он пристально посмотрел на меня. — Хотите «Когда-то нам сияли звезды», поет Корелли? Или Чайковского «Вальс цветов»?.. Ну хорошо, начнем с «Кантина торерос». Это гимн моего дома... Тореадорская харчевня — место, куда заходит тореадор, если бык не поднял его на рога... Я начинаю день и заканчиваю его этой пластинкой. — Он взял бархоточку, протер пластинку, поставил на диск и поудобнее устроился на стуле, выпрямив спину. Звуки скрипок заполнили оранжерею, вонзились в пальмы, но постепенно смычковая группа ушла на второй план, возникло несколько глубоких аккордов гитары, вступили кастаньеты — ив ритме болеро зазвучала гордая музыка. Маэстро увлекся, сжался, глаза горят. Вскинул руки в такт музыке, обернулся ко мне, а сам не здесь, там, в таверне с тореадором... На полную мощь звучат колонки, в одной — оркестр, в другой — гитара и кастаньеты, и это ритмическое объемное звучание, эта музыка, как разряд молнии, как мощный всплеск человеческих настроений... На диск ложится другая пластинка, и звучит меланхолическая грусть Чайковского, на лице Маэстро все оттенки музыки: задумчивость, просветление.
Неожиданно серый дождливый день прорезало солнце, и обдало охрой Канарские пальмы, ящики с семенами, седую шевелюру Маэстро.
— Извините, должны приехать рабочие...
Подошла полуторка, Упитис объяснил рабочим, что делать, а сам все в том же пиджачке, с шарфом на шее и открытой головой уехал за почтой. Я вышел, покурил и вернулся в хаос бандеролей, книг, ящиков и семян... Боч отлично подготовил меня к встрече. Я все узнавал и принимал все необычности этого дома. Конечно же, неясное оставалось неясным, но во всем угадывалась логика, даже в том, что в доме не было ни единого гвоздя, на который можно было бы повесить гостю верхнюю одежду...
Вернувшись, Упитис начал просматривать почту. Я вспомнил, как Боч сказал, что по почте Маэстро трудно судить о его профессии, — он выписывает 65 журналов на всех языках цивилизованного мира... Он вскрывал конверт, прочитывал, протягивал мне.
— От моего друга Сучкова из Алма-Аты, — сказал Маэстро и вынул из конверта маленький пакетик, глянул его на свет. — Это семена среднеазиатской алычи... Надо ему послать свои последние лилии...
Иногда, передавая мне очередную корреспонденцию на английском или французском языке, он тут же коротко излагал суть написанного.
— О!.. Канада заинтересовалась моей айвой... А это пишет Берзинь, наш латыш. Он защитил кандидатскую на тему «Упитис».
Маэстро так произнес свое имя Упитис, словно речь шла не о нем, не о конкретном человеке, а о понятии, которое включает в себя науку, методы работы, результаты... Он передавал конверты, и обратные адреса говорили о широкой известности Маэстро. Ему писали из прибалтийских, кавказских, среднеазиатских республик, Белоруссии, северных областей России, с Украины, из Англии, Франции, Канады, Америки, Финляндии, Швеции...
У этого человека есть все: ученая степень, государственная премия, орден Ленина, есть земля и самое главное — щедрость, с какой он отдает все, что выращивает в своем саду. Петерис Упитис — заведующий селекционной лабораторией плодоводства Научно-исследовательского института Земледелия Латвии, и его лаборатория — это весь его дом и семнадцать гектаров сада...
Время от времени Маэстро рассылает пригласительные билеты по всей Латвии, и в Риге выпускается афиша, где сказано, что Упитис устраивает показ своих диапозитивов. Я был не прочь увидеть хоть несколько из них, но, когда Маэстро предложил пройти с ним на второй этаж, я растерялся. Зная основательность Упитиса, я понял, что дело не ограничится несколькими снимками. Мы поднялись на второй этаж, прошли мимо комнат с табличками на дверях: «Биологическая лаборатория», «Фотолаборатория» и, наконец, вошли в помещение, которое скорее напоминало зал кинотеатра, чем комнату. Одна стена была полностью занята экраном. Едва он собрался опустить черные шторы, как сквозь серый дождливый день снова пробилось солнце и остановилось на зеленых росточках, только что проклюнувшихся из земли в ящиках на окне.
— Я не могу лишить их солнца, — сказал Маэстро и отошел от штор. — Это лилии из Южной Африки, — пояснил он и пригласил в соседнюю комнату, где все в тех же ящиках из-под фруктов хранились слайды. Он начал доставать коробку за коробкой и показывать их просто на свет. На пленке были австралийские и индийские лилии, сирень, кавказские абрикосы, нухинские яблоки, орехи Нагорного Карабаха, алыча из Средней Азии, — в общем, все, что он переселил в свой сад, акклиматизировал, вырастил... От красок рябило в глазах, и я уже не мог отличить золотую смородину от северного ореха. Цветы и плоды имели не только свои номера, но и имена. Например, сирень «Письмо Сольвейг» или «Мечтатель из Добеле», «Мать Эд Упитис»... Краски сливаются, словно смотришь абстрактные полотна, различая не предметы, а лишь цвет...
Уже вечерело, когда мы снова зашли в оранжерею послушать «тореадорскую харчевню». Я слушал стоя, все так же в плаще, понимая, что больше уже ничего не будет, а когда вернулись в кабинет, поблагодарил Маэстро за этот день, но он воспринял мои слова с иронией:
— Обычно друзья говорят, что от меня невозможно уйти живым... Они устают, — и вдруг предложил:— Присядем еще ненадолго.
Он достал большую тетрадь, записал в нее мой адрес, причем в этом был тоже стиль этого дома, его ритуал, затем протянул мне фотографию сирени и деликатно сказал: — Если нравится, оставьте себе.
Я снова вспомнил о том, что Упитис не подпускает к себе, людей, не подпускает, потому что не в силах отдавать половинчато. Он хочет, чтобы принимали все, но людям это не всегда свойственно, их устраивает малость, часть, от большой щедрости они чувствуй» большую усталость. Думаю, что день, который Маэстро позволил себе провести в праздных беседах со мной, — день для него особый, а мне просто повезло, и вот почему. Он все время в работе, в поиске, ему некогда остановиться, он торопится завершить свой труд, но, едва окончив, понимает, что это лишь малая часть. И однажды наступает момент, когда он непременно должен остановиться, чтобы увидеть дело рук своих, своего таланта, чтобы побывать в этом Прекрасном, почувствовать в нем самого себя и поделиться этим. Быть может, сегодня был именно такой день?
Уже на шоссе я понял, почему Боч так хотел увидеть своего друга. Я понял это по себе. Упитис заражает такой жизненной энергией, таким зарядом, что его хватает на долгое время. Без таких, как он, без встреч с ними трудно и одиноко жить...
Я торопился к поезду, в лицо хлестал дождь. Я набросился на залежавшийся в портфеле бутерброд, закурил и поймал себя на том, что тороплюсь, тороплюсь в Ригу. Раймонд Боч ждет моего звонка.
Надир Сафиев, наш спец. корр.
Три и дня три ночи в августе
Николай Петрович Чикер проснулся раньше своих попутчиков и, чтобы не будить их, вышел из купе, потихоньку задвинув дверь. Светало. По вагону бродили зябкие сквозняки, покачивали занавески на окнах. Одну из тряпочек он намотал на перекладинку, сдвинул в сторону — чтобы не мешала глядеть. Подышал на стекло — стекло запотело. Да, вот и кончилось лето, утро прямо осеннее. Последние дни августа...
Покрикивая гулко, как в туннеле, поезд лесным коридором шел к Москве. Там их вагон перегонят на Курский вокзал, подцепят к южному составу, и через сутки с небольшим — знакомый светлый город, Черное море, служба. Ленинградские приятели часто подшучивали: «Из отпуска — да на юг! Сплошной курорт получается, а не служба...»
Точно паровозный пар, утренний туман сползал с пригорков, с полян и исчезал в рощах, кое-где тронутых желтизной и багрянцем. На одной из просек, затянутой прозрачной синей дымкой, шел одинокий грибник. Он брел, словно странник, с плетеной корзиной через плечо и с палочкой-посошком. И Чикер вдруг остро позавидовал ему: так было бы хорошо, скинув форменный китель и натянув какой-нибудь затрапезный ватник, двинуться по росным травянистым тропам в лесные дали, навстречу утренней свежести и птичьему гомону... Но все это теперь в лучшем случае откладывалось до следующего года.
Лес за окном стал редеть, а потом и вовсе исчез. Потянулись заросли тальника, и за ними открылось широкое белесое пространство.
— Московское море... — Рядом с Николаем Петровичем стоял проводник и, с неодобрением поглядывая на пассажира, распутывал занавесочку. — Московское море, — еще раз пояснил он,— а рыбы, говорят, с гулькин нос.
Из моря местами торчали травяные кусты. У недалекого островка, точно врезанная в стеклянную гладь, стояла черная плоскодонка с рыбаком. На берегу горел костер, и кто-то там возился у огня — должно быть, приятели того, с лодки. «На уху, наверное, надергали», — решил Чикер. И попытался вспомнить, когда он сам вот так сидел у костра, где висел бы над пламенем закопченный котелок с ухой, а дрова потрескивали и стреляли в небо снопами летучих искр. Разве что на Каспии?