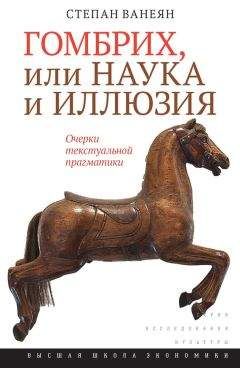…в общем и целом можно сказать, что описание производит высказывание, причем самыми различными способами[361].
Понять это можно двояко: только описание может быть высказыванием (методически мы должны описание строить как высказывание, чтобы видеть во всяком высказывании описание и больше ничего), или только описание создает условие для последующего высказывания (методически мы сначала должны составить описание, чтобы на его основании строить аналитические предложения). Альтернативы асимметричны: только в последнем случае можно избежать тавтологических высказываний и продолжить цепочку в сторону высказываний о науке. Это и соответствует излюбленному образу Гомбриха: только оседлав нечто не совсем совершенное, то есть не окончательное, не исчерпывающее и потому стимулирующее дальнейший поиск, мы можем надеяться на некоторую истину. То, что мы используем как материал, должно быть подетски открыто или не полностью полноценно, готово к сомнению и опровержению (это не настоящий конь, и это не настоящее высказывание!).
История искусства: страх неназываемых вещей, техника сомнительных вопросов
Правда, тут мы сталкиваемся с продолжением, отчасти разрешающим наши сомнения на тему того, что, когда вы описываете величину или материал, высказывание должно быть предметным, а иначе следует просто говорить, что «это произвело на меня впечатление» и не более того. Другими словами, сам Гомбрих склонен придерживаться мнения, что научными могут быть исключительно назывные предложения, а все остальное – фикция и поэзия и это вовсе не плохо, просто не научно. Но почему бы все-таки не допустить, что описание – только одна из функций или разновидностей высказывания, что связано с интенциональными аспектами речевого акта?
Ответ, почему для Гомбриха это не так, состоит в следующем пассаже:
Большинство вещей мы не можем выразить словами. Подумайте о посещении врача. Язык за этим не поспевает, но я точно знаю, что я испытываю. Однако это то самое, что невозможно сформулировать с помощью языка, чего нет в области публичного, то есть то, что не обсуждаемо интерсубъективно.
Ответ по-своему исчерпывающий: можно сказать, что художественная деятельность (не надо путать с художественной вещью!) сродни посещению врача (не надо путать с его диагнозом и рекомендациями!), в ней есть нечто не просто субъективное, но почти интимное, неотчуждаемое, не общеупотребительное, не предназначенное для всех, иррациональное, неосознаваемое, связанное или со страхами, или с неопределенностью состояний, чему нет названия. Опять же открытый вопрос, который был по-разному решен, например, Фреге и Расселом, касательно имен собственных и их применимости в верифицируемых высказываниях. Применительно к художественным творениям (да и к человеческому индивидууму) отдельный вопрос, насколько имя – аналог личности…
О чем не может быть знания или что не следует знать чужаку. Так что перед нами – определение или просто высказывание на тему науки: научное знание должно принадлежать упомянутой области публичного и предполагать или допускать свое обсуждение.
Это сильно облегчает обсуждение и понимание научных позиций самого Гомбриха. Эти позиции весьма пограничны в том смысле, что связаны именно с правильными, по праву, законно обозначенными границами, пределами – прежде всего средств, которые вынужденно принадлежат языку, но также и содержания, которое в человеческом случае всегда принадлежит оценке, то есть сфере нравственного, если человек – это свобода и выбор, выражающиеся, правда, и в способности к самоограничению…
Здесь приоткрывается и иной аспект, так сказать, научной перформативности, отчетливо размечающий границы науки и поэзии: как художественное творение можно и должно оценивать с точки зрения его качества, так и научные, например, гипотезы – они, как мы выяснили, сродни если не художественным творениям (все-таки не руками они сделаны), то, во всяком случае, интеллектуальным. Они тоже могут быть не совсем удачными, вызывать разочарование, если не исполнили возлагавшиеся на них надежды. И тогда та или иная аналитическая парадигма равным образом может рассматриваться с точки зрения техничности: насколько результативным, эффективным, удачным или просто приемлемым оказалось ее применение.
И вот в качестве промежуточного резюме этой проблематики еще раз вернемся на родную для Гомбриха немецкоязычную почву, напомнив себе общую картину немецкой науки об искусстве – с ее совершенно иными постулатами, установками и, главное, с иными интонациями и способами тематизации искусствоведческого и, прежде всего, историко-художественного знания. Это уже упоминавшийся текст Хофманна[362], важный для нас как пример и образец «другого» искусствознания, не озабоченного ни респектабельностью, ни доходчивостью и потому почти неотразимого в своей ненавязчивости…
Вспомним, как важно было для Гомбриха осознать и довести до сведения своего читателя, что искусство может выступать в разных аспектах, лишь отчасти служа целям познания, выступая в роли документамонумента, источника знания.
Хофманновский текст спустя 10 лет начинается с совершенно иного определения искусствознания – не просто как практики извлечения знания из искусства, а как практики задавания вопросов, смысл которой парадоксально заключается в том, что искусство для искусствознания выступает как проблемная величина: это документ, который являет принципиальную непонятность и сомнительность искусства. Фактически вместо документа перед нами симптом.
Природа этой сомнительности и симптоматичной проблемности искусства для искусствознания заключается в том обстоятельстве, что искусство не только оказывается точкой схода совершенно разных подходов, но выступает в качестве «сырого материала» для науки об искусстве, при том что этот материал предлагается искусствознанию иными дисциплинами. Он вовсе не сырой и не непосредственный, а подготовленный и опосредованный соответствующими науками, например археологией, рассматривающей и обрабатывающей памятники как чистые артефакты, лишенные какой-либо художественно-эстетической ценности.
Это то самое Sachkunde, что в обязательном порядке предваряет собственно искусствоведческие подходы: Inhaltkunde и, главное, Wesenskunde, то есть описание содержательной стороны произведения как изображения чего-либо и его сущностное объяснение как феномена, открывающего способ (форму) собственного существования. Наука начинается именно с этих притязаний, которых лишено знаточество, тем самым лишенное и признаков научного знания. Мысль абсолютно родственная гомбриховской, но с прямо противоположным логическим выходом: наука – это техника вопрошания, а не умение искусно отвечать на вопросы. Для Гомбриха важна ответственность в смысле готовности отвечать, так сказать, за свои ответы, позиция Хофманна – апология сомнительности:
…вопрошание, адресованное искусству, предполагает, что искусство вызывает вопросы и что оно не может быть понято из себя самого[363].
Там – ответственность, здесь – вопросительность знания.
Только после того, как будут произведены локализация, атрибуция и определение материального состояния произведения, то есть после «исторического описания» художественного творения, и начинается работа искусствознания. Причем здесь работает именно искусствознание «идеальное» (понятие Зедльмайра)[364], вбирающее в себя все подходы, но отдающее себе отчет в том, что его предваряет «вещественная каталогизация». Последняя, впрочем, с самого начала сталкивается с проблемами, принадлежащими исключительно искусствоведческому «кругу вопросов»[365], и заканчивается вместе с искусством через осознание того, что оно со своим предметом «разделяет судьбу никогда не иметь конца»[366].
Не сокрыт ли в этой концовке феноменологический намек на «безостановочное “и так далее”», характеризующее «бесконечность горизонтного сознания», заключенного в естественной установке на мир как «горизонт всех горизонтов»?[367] Или перед нами намек на принцип non finito, введенный в оборот Йозефом Гантнером, как характеристика не только процесса творчества, но и процесса интерпретации этого самого творчества?
Горизонт естественной установки, напомним, это «игровое пространство», трансцендирующее и сознание, и предметность – в их интенциональной взаимосвязанности. Такова и участь искусствознания, если оно претендует на ученость внутри вышеуказанных границ. Хотя завершение заметки о «теории искусства» с упоминанием художников, активных и текстуально, и концептуально (Кандинский, Клее, Мондриан), предполагает пафос бесконечности усилий искусствознания как созвучия и соответствия непрерывному и неисчерпаемому творчеству…