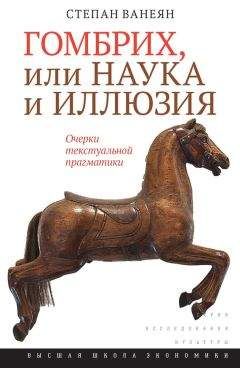Критика искусства: структуры физические и символические
На одном полюсе всего диапазона критических утверждений, распределенных по принципу условий коммуникации, лежат утверждения касательно физических свойств произведений и соответствующих им техник (это воспринимается всеми). На другом – личный опыт переживания творения (это требует максимальной самоотдачи и напряжения со стороны читателя). И посередине – утверждения относительно формальных и символических структур изображения, где задача рецепции таких утверждений облегчается тем, что конвенции распределены среди групп художников или тех же критиков, а также сосредоточены на свойствах одного произведения.
Но в любом случае – будь то эмпирические утверждения (первый тип) или аналитические (второй) – перед нами характеристики и классификации самих дискурсов, а не «отдельных зон восприятия» и типов соответствующего опыта, который всегда остается единым, сложно устроенным целым, а не «аккумуляцией отдельно взятых перцептов». Более того, это все один и тот же дискурс, который принято именовать критикой.
Простота усвоения физических характеристик связана с тем, что все они – результаты измерения, то есть, по сути, манипуляции с вещами, в том числе и с художественными творениями. И это легко включить в коммуникативный акт, ибо практика измерений и оценки с точки зрения физических параметров – максимально конвенциональная и упорядоченная область опыта, дополнительно и сугубо отчужденная от субъекта и, стало быть, «объективизированная» с помощью технических приспособлений и процедур (приборов и правил их использования). В этой зоне
данные не столь самоочевидны, чтобы оказаться под воздействием бессознательных вторжений воли[396].
И потому зачастую физически материальные аспекты произведения кажутся избавленными от ведения критики: то, что можно измерить количественно, не нуждается в том, чтобы его оценивали, то есть мерили качественной мерой, связанной всегда с переживаниями и аффектами. Однако не все так просто: физические свойства материала, его потенциал иным способом становятся релевантными критике, оказываясь проблемой для художника, ставя перед ним задачи, которые соотносятся не только с его воображением, но и с его сугубо техническими навыками, заставляя его решать эти проблемы и, соответственно, заставляя говорить об эффективности, результативности его действий (мысль совершенно аналогичная Гомбриху, равно как и та идея, что единственный способ говорить об историческом развитии – это говорить, основываясь на логике изменений технических навыков[397]). Мы реагируем на действия художника и, значит, оцениваем его технические навыки, причем по преимуществу с точки зрения его результативности, тем самым не только совершая критический акт, но и выступая в роли пользователя, заинтересованного в удовлетворении собственных ожиданий.
Формальные или символические структуры – это более сложный случай для критики хотя бы потому, что их функционирование предполагает в обычных условиях отсутствие внимания к ним и к их конвенциональности как таковой. И лишь там, где видоизменяется или нарушается система правил, зритель начинает обращать внимание на разницу между физическими и символическими параметрами, осознавая, что произведение искусства говорит с ним на «своем» специфическом «языке», который условен и потому выдвигает условия и со своей стороны. Знание подобной «грамматики» стиля (того, что внутри этого языка «символические и формальные конвенции организованы в когерентные конструкции, подобные грамматическим»), то есть языковая компетенция со стороны зрителя, обязательно как предварительное условие «чтения» и понимания. Хотя это не есть еще само понимание уже потому, что здесь не требуется индивидуальная чувствительность и способность передавать ее словами: лингвистический анализ изображения предполагает обучение и навык пользования приобретенным знанием – например, в целях интерпретации (еще, заметим, один из путей критики варбургианской иконологии).
Но самый главный момент – и это требует уже индивидуального опыта и настроя со стороны зрителя – обнаруживает себя не тогда, когда мы применяем приобретенные знания относительно тех или иных правил и традиций (формальных или символических) и учимся узнавать их в конкретном произведении. Проблема в том, что и формальная традиция («жизнь форм»), и символическая («миграция символов») в истории живут самостоятельной и зачастую независимой друг от друга жизнью (вдобавок по-разному вписываясь в контексты иного порядка – культурные, социальные и религиозные, давая тем самым выход интерпретатору в иные сферы иных «языков»).
Бесконечно более важно то обстоятельство, что как материал и техника обнаруживают себя в своем конкретном использовании конкретным художником (и это будет прямым эквивалентом реализации грамматических правил в речевом акте), так формальные и символические конвенции оживают лишь в случае их прямой встречи в индивидуальном творческом акте отдельно взятого художника. И именно этот аспект индивидуального достижения (но уже на уровне формы и символа) вновь вводит в игру критический дискурс.
Критика искусства: сопряжение материального и идеального
Сущностно важным оказывается именно момент неповторимого сопряжения-комбинации не только символических фигур, вступающих друг с другом в конкретные отношения (как, например, в случае sacra conversazione), но и моментов времени и элементов пространства[398]. Тогда самым прямым образом оказываются востребованными и задействованными чувствительность, отзывчивость, готовность реагировать на визуальные образы и на собственные состояния – со стороны зрителя, обнаруживающего себя частью всего происходящего. Аккерман напоминает об опыте кубизма с его симультанностью разновременных точек зрения[399], обращаясь одновременно и к проблеме конвенциональности так называемого абстрактного искусства, указывая в первую очередь опять-таки на условность и неудачность самого понятия. Ведь абстрактен любой символизм, а уж тем более изобразительный – независимо от того, присутствуют ли в изображении символы предметов или чего-то еще. В любом случае присутствует опыт повседневного восприятия, к которому обращается согласно своим правилам предметное искусство и от которого отвращается искусство беспредметное – тоже по своим правилам. Разница лишь в том, что в последнем случае правила задает сам художник, в первом – исторический, религиозный и культурный контексты. Конвенциональность сохраняется со всей определенностью, если сохраняется коммуникация, желание быть воспринятым и понятым – даже в желании оставаться непонятым[400].
И это чувство индивидуальности и ценность индивидуального момента и опыта работает, даже если мы имеем дело с анонимным произведением. По состоянию формальных элементов и по их отношению к символическим составляющим мы воспринимаем и осознаем неповторимость и уникальность произведения, фактически ставя себя на место отсутствующего автора. Да и отсутствует он лишь в нашем сознании в качестве нашего знания, которое, повторяем, лишь часть большего единства, включающего в себя персональность, но не умаляющего ее, хотя и оценивающего.
Критика искусства: целое уникального существования
Это целое – сама жизнь. И потому совершенно справедливо Аккерман именует финальные стадии критического дискурса уже не аналитикой, а синтезом, ибо речь идет
не об определении черт или частей произведения, а о тотальной значимости (import) его для зрителя[401].
Такого рода включенность произведения в сознание зрителя, присутствие его внутри опыта зрителя на практическом уровне делает затруднительным осуществление в полной мере столь желанной «синтетической критики», так как требуется язык, максимально свободный от общеупотребительной конвенциональности. Это совершенно аналогично ситуации с художником-творцом, который вынужден вырабатывать свой собственный язык, чтобы выразить свой индивидуальный опыт, ведь
слова в своей нормальной функциональности подводят нас лишь к границе художественной креативности; проникнуть внутрь нее – сам по себе креативный акт[402].
А, так сказать, повседневная, нормальная критика реагирует не столько на уникальное, сколько именно на конвенциональное, тогда как на самом деле важно не столько описание эффектов, сколько обнаружение «причин, создающих впечатления от произведения»[403]. А есть и «вопрос о значении целого»: целое не может быть дано порционно, последовательно, поэтому оно «продукт художественной персональности в данный момент»[404]. Так что оценка частей или отдельных аспектов произведения сродни характеристике человека исключительно по его жестикуляции или по его физиогномике.