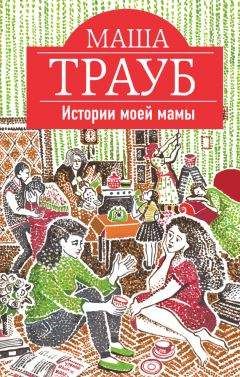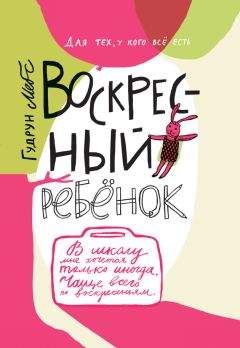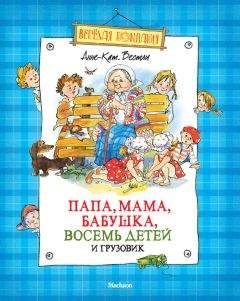Был замечательный случай. В этом – вся Россия. Мальчик, одноклассник и бандит Коля Максимов – потом он стал убийцей, убил хозяина голубятни, – он пришел ко мне домой. Ему очень хотелось жвачки, а у нас дома было все французское, родители недавно побывали во Франции. Он увидел на кухне такие подушечки, которые были похожи на жвачки. И он схватил эту подушечку и стал есть. А это был французский клей для обоев. И он не мог ни открыть рот, ни закрыть. Разлилось огромное количество клея, который тут же зацементировался у него во рту. Его юная испуганная бандитская физиономия до сих пор стоит у меня перед глазами.
Школа у меня была хорошая, с углубленным изучением английского. Она находилась в странном месте. Палашовский переулок – из названия следует, что там когда-то жили палачи. И видимо, там были казни, и там же хоронили. Там было кладбище. Мы в детстве играли черепами в футбол. Эта школа соединяла в себе несоединимое. С одной стороны от нее были переулочки, в которых жили очень бедно – в подвалах, топили дровами, бедствовали чудовищно. И тут же, через дом, жили советские сановники, жили похуже, чем сейчас миллиардеры, но по крайней мере, как миллионеры. С прекрасной мебелью, картинами. У нас в доме жил Лактионов, который тут же написал нам портрет «Письмо с фронта». Нашим соседом по черной лестнице был Фадеев, известный писатель. Мы жили в довольно любопытном мирке.
И в школе происходило такое кровосмешение: с одной стороны сверху люди падали, с другой стороны снизу поднимались. Одни дети приходили с телохранителями, а других детей телохранители отгоняли, потому что эти дети были бандитами. У некоторых не хватало денег, чтобы купить школьную форму, а другие ее специально шили на заказ. У меня была одна хлопчатобумажная форма, а другая – шерстяная. Но все равно времена были убогие, в «Детском мире» мы никак не могли найти мне шапку нужного размера, поэтому бабушка обшивала шапку ватой, чтобы она не сползала мне на физиономию. Много было смешного.
1954-й – это был первый год совместного обучения в школе, когда слили не только верх и низ, но и два пола. Тогда в школе появились туалеты для девочек и для мальчиков. Это был первый год после смерти Сталина, когда из нас перестали делать солдат и стали делать по крайней мере граждан. Все мы были бритоголовые. А девочки – с большими коричневыми бантами и праздничными – белыми. С передничками. И нас сажали с девочками, в первый раз после Сталина соединили полы. Искали решение полового вопроса через посадку за одну парту. Я влюблялся каждый год в ученицу старшего класса: в первом классе я влюблялся в ученицу второго класса. Во втором – я уже был в Париже – любил ученицу третьего класса, в третьем – четвертого, и так продолжалось долго. Самое интересное, что моя первая жена тоже на год старше меня. А вторая – на 34 года младше.
Няня моя носила хорошую фамилию – Маруся Пушкина из Волоколамска. Она смотрела на меня как на икону. И воспитывала меня почти как Арина Родионовна. Она мне передала русский дух. Я вообще редкий писатель, у которого стопроцентная русская кровь. И папа русский, и мама, причем в поколениях. У Достоевского в корнях Литва, у всех есть какая-то примесь. А у меня русская кровь. Поэтому я совершенно свободно могу быть и западным, и восточным, у меня нет никаких комплексов, я свободный.
Моя няня, как каждая деревенская няня, считала, что надо есть много. У меня есть замечательное воспоминание, как она кормила меня яйцами и не соизмеряла количество соли с яйцом. Мне потом казалось, что так же нас перекормили марксизмом – это похоже на ощущение от сильно соленого яйца. У меня много интересных впечатлений детства. Это выросло в книгу «Хороший Сталин». Я показал там совершенно удивительный мир высшего московского общества, который совмещал в себе коммунизм и послевоенную разруху.
Мои родители обладали исключительной порядочностью. Они и мне показали, что лучше всего быть порядочным человеком. Думаю, что мне очень многое разрешалось в детстве и я жил как в раю. Нет ощущения, что чего-то мне не доставало. Под Новый год дети получают от родителей два вида игрушек. Есть настоящие игрушки, это мечта – пожарная машина с лестницами. Я достану подарок, мама подойдет сзади, а елка пахнет хвоей… А есть игрушки на скорую руку, когда она купит что-нибудь – лото или другую какую-то дрянь. Еще в детстве я понял, что надо всегда делать хорошие подарки.
Интересно, что в других городах мира центр – это ратуша и площадь, которая называется рынком. А у нас центр – это Кремль, где никогда никакой торговли не было, а только церковь и администрация. У них – рынок и администрация, а у нас – божественная власть и городская.
После смерти Сталина папа продолжал быть помощником Молотова до 1955 года. Потом мы уехали в Париж. Папе немало везло в жизни. Мы успели уехать в Париж в 1955 году, а в 1957 году Молотова объявили членом антипартийной группы и разогнали весь его секретариат. Папа попал бы куда-то на плохое место, а так он уехал в Париж.
Если в Москве после школы очень хотелось пойти на Патриаршие пруды, то в Париже в начале Елисейских Полей по воскресеньям строили «рыночный марок». Я не случайно так говорю, потому что на самом деле это марочный рынок. Но я так волновался, когда туда несся! Там были марки всех стран, такого не было в Советском Союзе! Я перепутал и называл его не марочный рынок, а «рыночный марок». Мне давали на это один франк в неделю. Честно говоря – мало давали, но раз в месяц я мог пойти покупать марки тех стран, в которые мне потом хотелось съездить именно потому, что марки там красивые. Там были гениальные индейцы и ковбои, которые дрались, – такие маленькие игрушки. Балаганы, тиры на площади инвалидов. Мы жили прямо перед посольством, и первое, что меня научили говорить по-французски: «Это улица Гранель, 69». Если я потеряюсь в Париже, то скажу полицейскому свой адрес не по-русски, а по-французски. Потом я выучил язык.
Когда мне было 12 лет, меня привезли обратно в Москву. Все вокруг говорят: «Мы строим коммунизм!» Мне стало страшно: они же просто нищие, почти из леса вышедшие. И Париж меня взял не капитализмом. Париж – это был не только Пикассо, это были еще танцевальные народные балы, длинные юбки. Париж, который возродился после войны, – это было счастье. И вдруг я приезжаю сюда – все серое, убогое, без машин. Я говорю: «Что вы тут делаете, ребята, как так можно?» У многих на меня пошла реакция отторжения. Я не высокомерный человек и никого ни в чем не упрекал. Мне было не то чтобы себя жалко, я не сентиментальный, а довольно жесткий человек, мне просто казалось: «Ну как же так, почему там люди могут жить нормально, а вы живете как сволочи?»
...
Вячеслав Михайлович Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иваново. Окончил Ивановский химико-технологический техникум, Московский текстильный институт. Художник Общесоюзного дома моделей одежды в Москве. Создавал костюмы для театра, кино, телевидения, эстрады, фигурного катания. Ушел из Всесоюзного дома моделей в небольшое ателье и превратил его в Московский дом моды. Российский модельер, живописец, график, художник театрального костюма. Член-корреспондент Российской академии художеств, профессор кафедры моделирования одежды и обуви Московского технологического института.
Река Увыдь была у нас в центре города. Я с детства помню стихи: «Как на Увыди вонючей стоит город наш могучий – Иваново!»
Помню тяжелое время войны: жуткие холода, ощущение страха и одиночества, страшный голод. Ночные бдения в магазинах. Мы выстаивали огромные очереди. На руке рисовали твой номер в очереди и боялись, чтобы никто не влез вперед. Во время войны мама работала в госпитале медсестрой. А после войны, так как у меня еще брат был, она устроилась работать уборщицей в нашем доме. Мыла семь подъездов и стирала вечерами. Надо было выживать.
Уклад? Обыкновенная рабочая семья. Мать – уборщица, отца не было. Отец был в плену во время войны, потом бежал из плена, затем дошел до Берлина. Они возвращались домой – счастливые. В Харькове их сняли с поезда – всех, кто был в плену, и посадили на пятнадцать лет как изменников Родины. А я остался без отца и долгое время пребывал под знаком «сын изменника Родины». В семь лет мы с мамой поехали в Харьков, где папа проходил по этапу, и его можно было увидеть. Это было страшное путешествие, я в Москве чуть не попал под поезд. В Харькове чуть не потерялся. Ночью мы добрались до этого лагеря, окруженного проволокой, где около костров сидело огромное количество людей. Издалека я увидел контур своего отца – и все.
Вернулись в Иваново, а нас обокрали, хотя воровать-то было нечего. Мама слегла в больницу. Я купил двух цыплят и воспитывал их в сарае. Я думал: вырастут две курицы, а выросли два петуха. Мне жалко было, конечно, их резать. В обеденный перерыв я ходил по магазинам, пел песни продавщицам. Они мне ссыпали ломаное печенье, конфеты без оберток. Дарили, потому что я хорошо пел. Ужасно… Было полное ощущение безысходности. Ничего не светило, никаких радостей не было, даже, когда война кончилась. Еще хуже стало. Когда появились карточки, боже, какие были проблемы! Как воровали карточки, какие махинации проворачивали! А я в семь лет уже вел хозяйство, потому что мама этим не занималась. Я бежал к открытию магазина, чтобы купить хлеб, а карточки исчезли куда-то. Я пришел домой, говорю: «Мама, у меня утащили карточки». Она: «Боже мой, это значит – целый месяц голодные». Потом оказалось, когда мы лезли в магазин, карточка попала мне в рукав. Это была самая большая радость.