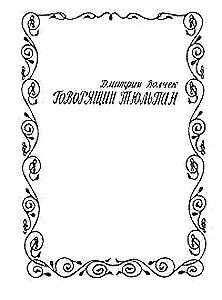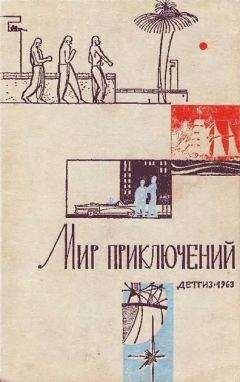– Продается плед, кто желает покупать?
Снова это ужасное слово «продается!» Сказала, и только тогда поняла, что наделала. И все вокруг поняли эту промашку, замерли, ждут, как будет реагировать Любовь Андреевна. А та на этот раз следит за фокусом, застыв как вкопанная. Смотрит, как из-под пледа появляется Аня, затем Варя, и не реагирует на их появление. Фокус окончен, но никто не аплодирует, потому что не знает, как обнаружить свои эмоции: то ли восхищаться, то ли возмущаться, то ли уйти молча. И тогда Раневская, желая снять возникшую неловкость, обнимает Шарлотту, может быть, даже целует и словами: «Браво, Шарлотта, браво!» – прощает ее: не время сейчас обижаться. И все сразу, почувствовав облегчение, начинают аплодировать.
Сегодня репетиция поначалу не задалась. В десятый раз Петя – Олег Даль и Симеонов-Пищик – Александр Андреевич Вокач выходят на сцену, начинают свой диалог, и в десятый раз Волчек останавливает их: то Вокач «перекрыл» Даля, то ритм не тот, то осветители опоздали, то фонограмма заглушила текст.
– Еще раз, пожалуйста! – кричит Волчек. – Сосредоточиться можно, наконец?!
Очень хорош Даль. Он как будто вступил в игру на спор: в десятый(!) раз произносит свои реплики и в десятый раз делает это по-новому. Словно он решил доказать, что способен никогда не повторяться. И самое удивительное: каждая его интонация – в характере роли и режиссерского решения сцены. Далевскую игру заметили все – и Волчек, и его партнеры, следят за ним и, по-моему, тайно ждут, что он еще выдаст. Великолепный артист! Может, для продолжения его соревнования с самим собой режиссер и останавливает столько раз сцену, давая Олегу простор для самовыражения?!
Но тут неожиданно Даль взрывается. Произнося в двадцатый раз свои реплики, он решил опереться о стол, который вдруг «поехал» под ним:
– Мария Федоровна, что это такое?! Почему стол не закреплен? Это же элементарно! Элементарный профессионализм! Актер не должен бояться реквизита!
Все, кто на сцене и в зале, поддержали возмущение. Мария Федоровна послала за монтировщиком, а в ожидании его Лиля Толмачева начала рассказывать ужасную историю о том, как однажды ее подвела бутафория.
Рассказывает она в образе Шарлотты – чуть манерно и с выразительным акцентом иностранной гувернантки – так интереснее и смешнее. Актеры там впереди, в седьмом ряду, слушают ее, улыбаясь.
– Акцент ей нужно будет снять, – говорит мне Волчек тихо. – В каждой постановке Шарлотта непременно была с акцентом! А она не немка. Родители ее умерли рано, а немка только ее воспитала, и имя, наверное, ей дала. Но всю жизнь Шарлотта среди русских, – вон у Раневской она уже 20 лет! Не акцент тут нужен, а немецкая аккуратность и русская сердобольность вместе! Она и любит всех по-русски – хочет всем помочь, но не знает как.
Монтировщик, наконец, появился и шумно закрепил стол, вогнав в его ножки десяток гвоздей.
И репетиция покатилась. Как будто для ее успеха и нужен был этот срыв Даля и многократные стуки молотка, вбивающего гвозди.
– Вчера я посмотрела «Сад» на Таганке, – сказала мне Волчек в перерыве. – То, что Эфрос сделал, эмоционально меня взволновало. Но это все не мое. Мы с ним совершенно разные люди, я не нахожу с ним точек соприкосновения. Его «Сад» – прекрасное самовыражение, но сделан он, как бы игнорируя Чехова, пробегая мимо его мыслей, монологов. Петя – Золотухин просто пробалтывает их без всякого смысла.
Я смотрела спектакль вместе с Товстоноговым. Когда мы вышли из театра, Георгий Александрович заметил:
– Я знал разных Раневских, но никогда не подозревал, что она может быть безумной. Зачем это?
Ведь таких драматургов, как Чехов, у нас немного. Хотя в конечном итоге мы с Эфросом сойдемся: его тоже волнует тема гибели интеллигенции, а не дворянства. Но сделаем это разными средствами…
После перерыва Волчек спросила актеров:
– Вы обратили внимание на чеховскую ремарку, которой он сопровождает первое появление Раневской на балу? «Напевает лезгинку». Это в разгар бала. Там в соседнем зале оркестр играет котильон, вальс, а она наперекор оркестру напевает лезгинку. У каждого человека своя мелодия, свой внутренний ритм, меняющийся в зависимости от состояния. Лезгинка – ритм Раневской, ожидающей результата торгов.
От этого и лихорадочное:
– «Отчего так долго нет Леонида? – и впритык за этим, без всякой связи – Дуняша, предложите музыкантам чаю, и метания среди никому не нужного бала».
Волчек ищет возможность подчеркнуть зловещую нелепость этого праздника в преддверии катастрофы. На репетицию приглашен профессиональный фокусник, работающий на эстраде – Юрий Мозжухин. Режиссер попросила его придумать несколько иллюзионных трюков, способных произвести почти мистическое впечатление.
– В них должна быть чертовщина. И нельзя ли сделать какой-нибудь фокус с цветами – обязательно искусственными, чтобы их безжизненность бросались в глаза. Их должно быть много, мы засыплем ими всю сцену, как засыпают свежую могилу.
Третий день репетируются два небольших эпизода начала акта, которые займут в спектакле чуть больше пяти минут. Двенадцать часов работы на два эпизода – не слишком ли много?!
Когда же в таком случае будет готов спектакль?
Для Волчек этот акт – решающий. Камертон, от которого зависит звучание всей чеховской пьесы. Потому-то такая скрупулезность, потому-то в нарушение традиций (где она театральная последовательность в подготовке роли, которой грезят актеры кино!?) репетиции на сцене она начала именно с третьего акта, минуя и первый, и второй.
– Сейчас, – говорит режиссер, – очень важно, чтобы актеры нажили внутреннее состояние своих героев, какими они предстают в третьем акте, ощутили эту атмосферу крушения, катастрофы. Тогда можно точнее сыграть начальные акты, зная, что впереди.
Сцену разговора Раневской с Петей Волчек перенесла из дома в сад. Дома как такового в ее постановке нет. Есть эллипсообразная площадка – некое жилое пространство. Свободное, просторное ничем не стесняющее действия актеров, – нечто, напоминающее видоизмененную арену, чуть наклоненную для удобства обозрения к зрителю. Есть и просцениум, на котором размещена садовая скамейка, бревенчатый невысокий сруб колодца и деревья – у самых краев портала. Сюда, не в силах больше вынести внушающих ужас фокусов Шарлотты – с фейерверком мертвых цветов и совершенно ритуальным, парящим в воздухе столиком, сюда, на первый план, ближе к зрителям (ближе нельзя) вбегает Раневская, а за ней и Петя.
Можно предвидеть сакраментальное:
– А как же быть с утверждением – «по Чехову»? А что же тогда «вопреки ему»?
Новация Волчек имеет аналоги в истории театра. Любители авторитетов могут не волноваться – Станиславский неоднократно (!) изменял место действия. В «Хозяйке гостиницы» Гольдони последний акт – объяснения многочисленных поклонников в любви к Мирандолине – у Станиславского происходил не в одной из комнат, где хозяйка гладила белье, а на чердаке и – страшно подумать! – на крыше. И такая перемена, по свидетельству очевидцев, дала возможность выразительнее передать авторскую мысль, явилась режиссерским ключом акта, засверкавшего каскадом комических мизансцен.
То же было и в «Женитьбе Фигаро» Бомарше в постановке Станиславского, где сама свадьба, по воле режиссера, происходила не в графских покоях, а на заднем дворе замка.
Уже пробег Раневской в сад – долгий, из глубины сцены вдоль эллипса, когда героиня, кажется, стремится убежать от самой себя – не только раскрывает ее состояние (ведь в комнатах ей «шумно, дрожит душа от каждого звука»), но и является новой, для «Вишневого сада», выразительной мизансценой. Весь разговор с Петей – в саду зазвучал иначе, чем в гостиной, где их могут услышать, куда каждую минуту могут войти. И по-особому крупно предстали смятенность и потерянность Раневской, ее несчастливая любовь, «камень на шее», сбросить который она не в силах, ее попытки найти понимание у Пети, мольба о помощи и вспышка ненависти – громкой, слепой, когда нет слов, чтобы оправдаться, и нападение становится лучшим средством защиты.
Марина Неелова и Игорь Кваша в спектакле «Вишневый сад»
После двухнедельных репетиций третий акт доведен до конца.
– Только вчерне! – говорит Волчек. – Я ставлю спектакль трижды. Сначала за столом – разбор пьесы. Затем на сцене – по актам, вернее – по складам. И наконец, набело, уже подряд – до выпуска, до премьеры. Самый трудный, самый ответственный – второй этап. Сложность тут, прежде всего, в том, что работая над эпизодом, «куском», как мы говорим, режиссер не должен упустить целое, мысленно всегда представлять, каким будет каждый акт и весь спектакль. Иначе говоря: работая, по выражению Фирса, «враздробь», нужно внутренне ощущать образ спектакля и поверять последним сделанное. Предвижу, что на этот раз второй этап у нас затянется, и я не уложусь в срок. Но ведь это же Чехов! – бесконечно глубокий, бесконечно разноплановый и бесконечно непостижимый!..