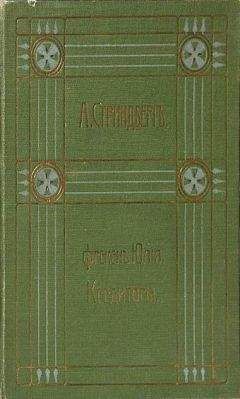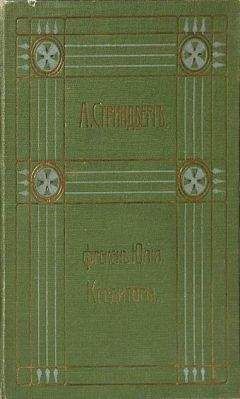Да, она не могла ее постичь, это я видел ясно! Я заказал сани, и мы поехали в Лидинаодро. Там пили глинтвейн и ели прекрасный завтрак — было так, как на свадьбе, — и затем мы поехали домой.
— А затем? — спросила старуха и взглянула через очки.
— Затем? Гм!.. Да простит мне Бог мои грехи — я ее провел, прямо провел, перед Богом и моей совестью! Что ты на это скажешь, мамаша?
— Ты очень хорошо сделал! А теперь?
— А теперь всё прекрасно — all right — мы говорили о воспитании детей, об освобождении женщины, о всяких глупостях, о романтике и т. д., но мы говорили вдвоем, и так понимаешь друг друга лучше всего, не правда ли?
— Конечно, сердце мое. Ну, теперь и я к вам приду и посмотрю на вас.
— Сделай это, мамочка, ты должна опять увидеть, как танцуют куклы и поют и щебечут жаворонки и как весело и хорошо у нас, потому что никто не ждет «чуда», которое существует лишь в книгах, не правда ли? Ты там увидишь настоящий кукольный дом, я тебя уверяю.
Его отец умер рано, и он рос под надзором матери, двух сестер и множества теток. Брата у него не было. Они жили в своем имении в глуши Зодерманланда; и кругом не было соседей, с которыми можно было бы вести знакомство. Когда ему минуло шесть лет, ему и сестрам наняли гувернантку, и в это же время в дом была взята маленькая кузина.
Он спал в одной комнате с сестрами, играл в их игрушки, купался с ними вместе, и никому не приходило в голову, что он был другого пола, чем девочки.
Старшие сестры тоже скоро наложили на него руку, сделавшись его наставницами и тиранками.
Он был крепким мальчиком, но, будучи постоянно окружен чрезмерной нежностью, он, сделался со временем изнеженным и беспомощным.
Однажды он сделал попытку поиграть с деревенскими детьми. Они отправились в лес, где лазили по деревьям, доставали гнезда, бросали камнями в белок. Фритиоф был счастлив, как выпущенный на волю пленник, и остался с ними дольше обеда. Мальчики собирали голубику и купались в озере — это был первый счастливый день в жизни Фритиофа.
Когда под вечер он вернулся домой, весь дом был в смятении. Мать чувствовала себя несчастной и огорченной и не скрывала своей радости снова его увидеть. Тетка Агата, старая дева, которая собственно командовала всем домом, напротив, была в ярости. Такое преступление должно было быть наказано. Фритиоф не понимал, в чём собственно было преступление, но тетка настаивала на своем; непослушание есть преступление. Фритиоф говорил, что ему никогда не запрещали играть с деревенскими детьми. Не запрещали, так как ничего подобного никому и в голову не приходило. И тетка настояла на своем и на глазах матери потащила его в свою комнату, чтобы там выпороть. Ему было уже восемь лет, и он был сильный, рослый мальчик.
Когда тетка стала расстегивать его штаны, у него выступил пот, дыхание оперлось в горле, и его маленькое сердечко заколотилось. Он не кричал, но смотрел на старую деву возмущенными глазами, а она просила его почти льстивым голосом быть послушным и не сопротивляться. Когда она обнажила его маленькое тельце, его охватило такое чувство стыда и раздражения, что он вскочил и начал всё колотить вокруг себя. Что-то нечистое, что-то неизъяснимо отвратительное, казалось ему, исходило от старой девы, против чего возмущалось его чувство стыда. Но тетка впала в настоящее бешенство, бросилась на него, толкнула его на стул, сорвала рубашку и стала бить. Сначала он кричал от ярости, так как не чувствовал боли, судорожно колотил ногами, чтобы высвободиться, а потом вдруг совершенно затих.
И когда старуха остановилась, он оставался лежать.
— Встань, — сказала она усталым, срывающимся голосом.
Он вскочил и посмотрел на нее. Половина её лица была бледной, другая красная, глаза мрачно блестели и она дрожала всем телом. Мальчик смотрел на нее, как смотрят на злое животное, и с язвительной усмешкою, как бы чувствуя себя выше её благодаря презрению, которое она ему внушала, бросил он ей слово «дьявол», которое только что узнал от деревенских детей. Потом сгреб свои вещи и побежал к матери, которая, плача, сидела в столовой. Он хотел ей пожаловаться, но она не отважилась его утешать; тогда он побежал в кухню, где служанки накормили его изюмом из овощного планчика.
С этого дня он не спал в одной комнате с сестрами, а был переведен в спальню матери. Это ему показалось очень скучным и неприятным, и, когда мать, движимая своею нежностью к нему, подходила к его постели по нескольку раз в ночь, чтобы поправить одеяло и подушки, она мешала ему спать, и на её вопросы, хорошо ли ему, он отвечал с досадой. Выходить из дома он должен был всегда тщательно укутанным; у него было так много теплых платков и галстуков, что даже трудно было выбирать. Если же ему удавалось ускользнуть незамеченным, то всегда сзади открывалось окно, и ему кричали, что он должен воротиться и надеть еще что-нибудь. Игры с сестрами ему начали надоедать. Бросание мячика из перьев было уже не для его сильных рук, которым хотелось бросать камни. Игра в несчастный крокет, которая не давала ему ни физического ни умственного удовлетворения, его ужасно раздражала.
И потом вечное присутствие гувернантки, которая говорила с ним по-французски, тогда как он отвечал ей по-шведски.
Им начала овладевать глухая ненависть к своему существованию и ко всему окружающему. бесцеремонное обращение, практиковавшееся всеми женщинами в доме относительно его, ему казалось презрением, и в нём развивалось чувство отвращения. Единственно кто считался с ним, была его мать, которая велела поставить у его кровати большие ширмы. В конце концов комната девочек сделалась для него убежищем, где его всегда охотно принимали. Здесь ему приходилось слышать вещи, которые могли бы возбудить любопытство мальчика, но для него уже не существовало тайн. Так однажды забрел он случайно в купальню девочек. Гувернантка закричала, но он не понял почему и начал болтать с девочками, которые голые играли в воде. Это не производило на него никакого впечатления.
Так рос он и сделался юношей. Нужно было взять к нему учителя, чтобы учить его сельскому хозяйству, так как Фритиоф должен был потом получить имение в свои руки. Пригласили старого благочестивого господина. Это было вовсе не интересное общество для молодого человека, но все-таки лучше в сравнении с тем, что у него было до сих пор. Но учитель ежедневно получал так много инструкций от дам, что, в конце концов, сделался положительно слушательной трубкой. В шестнадцать лет Фритиоф причащался, получил в подарок золотые часы и позволение ездить верхом; но ходить с ребятами в лес, о чём он мечтал, ему все-таки не позволяли.
Его не пугали розги его смертельного врага, но останавливали слезы матери. Он все-таки был еще ребенком.
Но он рос, и ему минуло двадцать лет. Однажды он стоял в кухне и смотрел, как кухарка чистила окуня. Она была красивая молодая девушка с правильными чертами лица. Он начал с ней шалить и вставил палец в вырез на спине её платья.
— Господин Фритиоф, будьте добры, — просила девушка.
— Я же добрый, — сказал Фритиоф и стал приставать еще настойчивее.
— Нет, Господи Иисусе, вдруг войдет барыня!
В это мгновение мать Фритиофа прошла мимо кухонной двери, обернулась и пошла на двор.
Фритиофу сделалось не по себе, и он исчез в свою комнату.
В это время был нанят новый садовник. Опытные дамы нарочно выбрали женатого. Но по несчастному стечению обстоятельств этот садовник был женат настолько давно, что имел уже созревший плод своего супружества в виде милой, симпатичной девушки.
Господин Фритиоф скоро открыл эту прелестную розу среди других цветов своего сада. Вся жившая в нём склонность к женскому полу обратилась на молодую девушку, которая была так красива и не лишена образования. Он теперь часто ходил в сад и подолгу болтал с ней, когда она стояла на коленях перед клумбой или ходила взад-вперед по саду, рассаживая цветы. Но она держала себя с ним очень гордо, и это только увеличивало его влюбленность.
Однажды он ехал через лес и по обыкновению грезил с открытыми глазами о той, которая казалась ему совершенством. Он тосковал о ней, ему хотелось увидеть ее здесь в уединении, без свидетелей, без страха вызвать чье-либо неудовольствие. Эта мечта принимала в нём такие размере, что жизнь стала ему казаться без неё ненужной и бесценной. Лошадь шла по дороге шаг за шагом с опушенными поводьями, а всадник сидел в седле, глубоко погруженный в свои мысли. Вдруг между деревьев он увидал что-то светлое, и дочь садовника вышла ему навстречу. Он соскочил с. лошади, поклонился ей, и, болтая, пошли они оба по дороге рядом с лошадью. Он в различных выражениях говорил ей о своей любви, но она отклоняла эту тему.
— Зачем мы будем говорить о невозможном, — сказала она.
— Что невозможно? — воскликнул он.