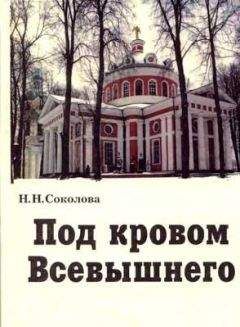Туру-туру-туру,
Туру-туру, туру, туру,
Туру-туру-туру.
Воргунов живо аплодирует, мальчики собираются к нему.
Воргунов: Честное слово, хорошо. Вы были на «Кармен»?
Романченко: Аж два раза. И наш оркестр играет. Мы можем еще спеть для вас марш из «Кармен»: Петьки, Федьки, Витьки, Митьки.
Жученко: Эй, вы, музыканты, успокаивайтесь, пока я вас отсюда не попросил…
Романченко: Мы возле вас сядем, товарищ Воргунов. А то наша жизнь плохая: кто чего ни скажет, а Жучок на нас кричит.
Воргунов: Ну что же, садитесь.
Романченко: Вы у нас будете, как дредноут, а мы подводные лодки.
Синенький: Вы знаете как, товарищ Воргунов? Если Жучок будет нападать, вы правым бортом, а если Алексей Степанович — левым бортом.
Воргунов: А вы меня тут нечаянно не взорвете? Подводная лодка, знаете, опасная вещь…
Синенький: Ого! Вот вы сегодня увидите: будет атака подводных лодок — прямо в воздух.
Крейцер: У вас такие серьезные планы, подводные лодки?
Романченко: Даже самим немного страшно.
Блюм: А почему вы говорите «подводные лодки»? Настоящие моряки так не говорят. Говорят: подлодки.
Синенький (улыбается): Так это мы для непонимающих, для разных сухопутных.
К этому времени в кабинете собрались все пять командиров, человек пятнадцать-двадцать старших коммунаров. Не нашедшие места на диване стоят у дверей. «Подлодки», разместившиеся было на диване, уступая места старшим и взрослым, постепенно опускаются на ковер, окружая большой диван со всех сторон. Прежде всего им пришлось уступить место на большом диване Крейцеру, потом Трояну; Торская и Вальченко устроились у стола Захарова, недалеко от них Блюм. Дмитриевский и Григорьев держатся особняком в самом дальнем углу. В кабинете стало тесно.
Жученко: Ну, довольно.
Пауза.
Жученко: Первый!
Клюкин: Есть!
Жученко: Второй!
Зырянский: Есть, второй.
Жученко: Третий!
Донченко: Есть.
Жученко: Четвертый!
Забегай: Четвертый непобедимый есть.
Жученко: Пятый!
Собченко: Пятый на месте.
Жученко: Голосуют командиры, члены бюро, начальник коммуны и товарищ Крейцер, а также главный инженер. Могут присутствовать и брать слово все коммунары, но предупреждаю, в особенности компанию подводных лодок, что при малейшем, знаете (улыбнулся), выставлю беспощадно.
Синенький (шепчет Воргунову): Видите, видите, какая политика?
Жученко: Объявляю заседание совета командиров открытым. Слово члену бюро комсомола товарищу Ночевной.
Ночевная: Все уже знают, в чем дело. Я коротко. Положение на заводе неважное. Проектный выпуск — пятьдесят машинок, а мы сегодня еле-еле собрали тридцать пять…
Романченко: Тридцать шесть.
Жученко: Федька…
Романченко (Воргунову и Крейцеру): Видите, какая справедливость. Ведь на самом же деле тридцать шесть. А она не знает, а берется доклад делать.
Жученко: Федька, оставь разговоры.
Воргунов: Они нас взорвут, эти подлодки.
Ночевная: Ну, хорошо, тридцать шесть. Недостатка у нас ни в чем нет, коммунары работают хорошо. Но все-таки дело как-то не вяжется, и техника нашего производства освоена слабо. Комсомол предлагает: прежде всего прекратить всякую партизанщину, вызовы коммунаров по вечерам. На всех опасных и важных участках мы предлагаем учредить коммунарские посты для изучения техники и для того, чтобы наблюдать за ходом всего дела на этом месте. Посты эти должны отвечать за свои участки наравне с администрацией. Бюро просит совет командиров провести это в жизнь начиная с завтрашнего дня.
Жученко: Кому слово?
Романченко: Мне! (Подскочил на ковре.)
Жученко: Ты подождешь.
Синенький: Вот видите?
Воргунов: Давай и в самом деле подождем.
Клюкин: Дай мне слово.
Жученко: Говори.
Клюкин: Я два слова. Надо решить вопрос о Григорьеве. Ленивый, неспособный и чужой для нас человек. Второе: надо, чтобы товарищ Дмитриевский объяснил, на чем основано его особое доверие к Григорьеву и особое недоверие к коммунарам?
Романченко: Это — да…
Григорьев: Мне можно?
Жученко: Говорите.
Григорьев: Я всю эту компанию понимаю. Коммунары любят, чтобы их хвалили, а я требую от них честной работы.
Общий смех.
Гедзь: Когда вы сами приходите на работу?
Романченко: А сколько раз вас товарищ Воргунов гонял?
Жученко: Федька, ну чего ты кричишь?
Григорьев: Криком и смехом не возьмете, товарищи коммунары. А воровство?
Пауза.
Григорьев: Почему же вы не смеетесь?
Пауза.
Григорьев: Если сейчас произвести обыск?
Забегай: А кто будет обыскивать?
Григорьев: Вот только жаль, что обыскивать некому…
Крейцер: Все воры, значит?
Григорьев: Я этого не говорю. Но вы предпочитаете о воровстве молчать.
Романченко: Чего молчать? Дай слово, Жучок.
Жученко: Подождешь.
Романченко: Так смотрите же, товарищ Григорьев: я не молчу, а поджидаю.
Жученко: Ты дождешься, пока я тебя выставлю. Видишь, товарищ Григорьев не кончил?
Григорьев: Я все-таки предлагаю обыск. Вчера у Белоконя пропали часы из кармана. За что страдает этот человек? Только повальный обыск.
Блюм: Так надо же пристава пригласить?
Григорьев: Какого пристава?
Блюм: Эпохи Николая второго, какого?
Жученко: Соломон Маркович… постойте…
Блюм: Я не в состоянии больше стоять… У меня тормоза испортились…
Собченко: Дай, Жучок…
Жученко: Жарь.
Собченко: Григорьев: прямо нас называют ворами, и выходит так, что мы помалкиваем. Почему? Мы так молчать даже и не привыкли. Так считают: беспризорный — значит вор. Григорьев сколько здесь живет, а того и не заметил, что в коммуне нет беспризорных. Беспризорный — кто такой? Несчастный, пропадающий человек. А он не заметил, что здесь коммунары, смотрите какое слово: коммунары, которые, может быть, честнее самого Григорьева…
Дмитриевский: Не позволяйте же оскорблять.
Жученко: Ты поосторожнее, Санчо…
Собченко: А для чего нам осторожность? Кто это такое придумал! Таких, как Григорьев, нужно без всяких осторожностей выбрасывать. Инструменты пропадают, надо обыскивать коммунаров? Почему? А я предлагаю: что? Пропали инструменты? Обыскивать Григорьева.
Григорьев: Как вы смеете?
Дмитриевский: Это переходит всякие границы.
Жученко: Товарищ Собченко!
Романченко: Ух, жарко…
Собченко: Нет, ты сообрази, Жучок, почему на всех коммунаров можно сказать «вор», устраивать повальные обыски, а на Григорьева нельзя? Мы знаем, кто такие коммунары: комсомольцы и рабфаковцы. А кто такой Григорьев? А мы и не знаем. Говорят, генеральский сын. Так если комсомольца так легко обыскивать можно, так я скажу: сына царского генерала — скорее. А возле Григорьева Белоконь. Откуда он? А черт его знает. Механик. А он долота от зубила не отличает, автомат угробил. Тут уже и товарищу Дмитриевскому ответ давать нужно: почему Белоконь, почему? А Белоконь денщик отца Григорьева. Какой запах, товарищи коммунары? Все.
Григорьев: Откуда это? Кто вам сказал?
Блюм: Это я сказал.
Григорьев: Вы?
Блюм: Я.
Григорьев: Вы знаете моего отца?
Блюм: А как же? Встречались.
Григорьев: Где?
Блюм: Случайно встретились: на погроме, в Житомире…
Дмитриевский: Такие вещи надо доказывать.
Блюм: Это я в Житомире не умел доказывать, а теперь я уже умею, к вашему сведению.
Романченко: Вот огонь, так огонь…
Жученко: Товарищи, не переговаривайтесь. Берите слово.
Зырянский: Слово мое?
Жученко: Твое.
Зырянский: Прямо говорю: Григорьеву дорога в двери. У нас ему делать нечего. Только за женщинами. Ко всем пристает: и уборщицы, и конторщицы, и судомойки, и учительницы, коммунарок только боится.