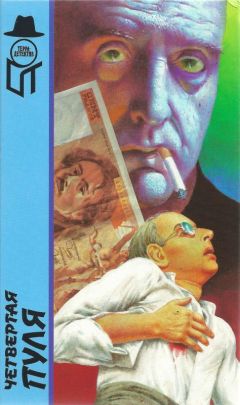Входит Соколов.
Соколов. Обедать-то станете, Алексей Аркадьич?
Столыпин. Что?… Нет, не буду. (Трубецкому.) Ты не хочешь? (Тот отказывается.) Ты вели собираться, старый. Бумаг только его не трогай, я сам приберу.
Соколов. И то надо, батюшка, все растаскают: дамы кто листок унесет, кто пуговку, и этого не убережем… Этой барышне снурочек от крестика нательного отказали…
Трубецкой. Это ты Кате? Вместо ее бандо?
Столыпин кивает.
Соколов. Как барыне-матушке-то все свезем, как покажем? Как же ты, скажет, Андрюшка окаянный, не уберег барина, как упустил?… Да как же, скажу, матушка, ходил, пил, ел, а наш-то его все: Мартыш, Мартыш!.. Кабы знал я, матушка,… Вот тебе и Мартыш!.. (Уходит.)
Трубецкой. Мартыш!.. Он все в остроге?
Столыпин. Не знаю. Какая разница, он сделал свое дело… А мы… Мы и теперь защитить его не можем. (Подходит и снимает со стола портрет.) Прости, Миша…
Трубецкой. Опять бежать! Ну, судьба!..
Темная комната с решеткой. За деревянным столом, на котором листки бумаги и чернильница с гусиным пером, сидит Мартынов (25 лет). Лицо его освещено свечой. Он в черкеске, голова обрита, баки, он грубо красив, выражение упрямое. Он не пишет, он говорит с человеком, который ходит по темной части комнаты, – это жандармский подполковник Кушинников, «особых поручений» чин, посланный Бенкендорфом на Кавказ тотчас вслед за Лермонтовым. Кушинников петербуржец, не стар, неглуп, хорошо информирован, дело свое знает. В гражданском платье. Заунывная песня за стеной.
Мартынов. Я еще раз требую, господин подполковник, пусть переведут меня из острога: всю ночь пьяные песни орут, матерщина, псалмы читают, – этак с ума недолго сойти… Слышите?
Кушинников. Да, я сказывал коменданту, это сделается.
Мартынов. Они корпуса жандармов как огня боятся, стоит сказать…
Кушинников. Я говорю, сказывал. А нас что уж бояться!
Мартынов. Как мужика какого пихнули и забыли!
Кушинников. Ну-ну, не обижайтесь, сделается… Так я, как изволите видеть, показаний с вас не снимаю, протоколов не делаю. И вообще прошу понять: разговор имеем мы с вами как бы и неофициальный. Вы человек военный и поймете: мое дело – доложить своему начальству всю картину в наиболее правдивом свете, только и всего. Подробности, как вы понимаете, мне уже известны, но всех мотивов и пружин…
Мартынов. Да какие ж пружины! Я уж вам отвечал. Убить я его не хотел. Я терпел много, но он не оставлял свой постоянный топ persiflage,[3] издевался, рисовал карикатуры. Я ношу эту форму и необходимый к ней кинжал, вот так. (Показывает то место, где пряжка бывает.) И он обыгрывал это в мало приличном виде. И при совсем молоденьких demoiselles, у Верзилиных, Надин – пятнадцать, а Грушо – девятнадцать.
Кушинников. Груше двадцать один.
Мартынов. Да? А она говорила… Не о том, впрочем!.. (Продолжает.) Я впал в бешенство, выговорил ему – в тот вечер у Верзилиных, – а он опять за свое и смеяться: мол, вызови меня, коли так.
Кушинников. Смехом?
Мартынов (не слушая). Что мне оставалось? Возможно, во мне обострено point d'honneur,[4] но в наши времена, когда чувство чести некоторыми вообще ни во что не ставится… Я сделал картель. В бешенстве.
Кушинников (как бы про себя). Смехом… в бешенстве… (Мартынову.) Да-да, понятно. Но прошло два дня, было время остыть, примириться…
Мартынов. Я много прощал и мирился, но теперь мы… то есть я… решил его проучить, раз и навсегда…
Кушинников. Вы считали, это произведет верное впечатление на местное общество? Например, на кружок госпожи Мерлини?
Мартынов. Не знаю. Его там не жаловали, да, но я о том не думал…
Кушинников. И решили сами? Или с кем держали совет?
Мартынов. Что?
Кушинников. Целых два дня после вызова… Человек не может быть сам с собой, не обсуждать с друзьями…
Мартынов (гордо). Господин подполковник! Я!.. Один!.. Никто!..
Кушинников. Полно, полно, успокойтесь… Скажите, возможно, вы и в ходе самого поединка ожидали новых каверз, насмешки? Допустим, незаряженного пистолета или… Вы успокойтесь.
Пауза. Мартынов понимает, что ему помогают.
Мартынов. Да, тут всего можно ждать, – их игривость достигла вершин Эльбороуса…
Кушинников. Но, однако, игривость-то должна была б упасть при столь жестоких условиях дуэли и дальнобойных кухенрейтерах…
Мартынов. А, этим его не взять! – он на засады бросался и на батареи.
Кушинников. Воинская храбрость вашего противника не вызывает у вас сомнения?
Мартынов (важно, подумав). Нет. Если холод души и презрение к жизни назвать этим словом.
Кушинников. Как?
Мартынов. Кому жизнь-то не мила – смерти не боится.
Кушинников. А…
Пауза.
Мартынов. Конечно, чего хочешь от них жди!..
Кушинников (осторожно). Почему вы не ждали его выстрела?
Мартынов (быстро). Потому что он бы не выстрелил. Потому что…
Кушинников. Хорошо, хорошо, оставим самый поединок… Поверьте, я понимаю ваше состояние, вашу подготовленность к столь пылким действиям. Я наслышан обо всем. И о том, как господин Лермонтов интриговал против вашей сестры, как утерял однажды переданные вам письма…
Мартынов. Да нет, то пустяки!..
Кушинников. Не торопитесь, сделайте анализ этим фактам, они могут быть учтены в дальнейшем. Говорят, главное лицо своего романа, княжну Мери, списал он с вашей сестры.
Мартынов (туго соображая). Нет, это вымысел.
Кушинников. Не спешите, обдумайте, оставим этот пункт до будущего разговора… Вот вы промолвились о холоде души, – видите ли, я нынче, мне кажется, лучше знаю вас, чем вашего противника, и желалось бы понять, что за характер имел…
Мартынов (сразу). Он был безнравственный человек. Ничего святого. Он все презирал с младых ногтей своих. Отечество, народ, доблесть, любовь, привязанность – все было для него звук пустой. Насмешки надо всем – вот его идея. Англичане его отравили, Байрон, которому он был подражателем.
Кушинников. Вы ведь давно и недурно его знали?
Мартынов (не отвечая). У него, может, и была когда душа, да он ее умом убил. Свет его испортил. Я, открыто вам скажу, презираю свет, – вот эта черкеска, конь, горный ветер дороже мне всех дворцов и гостиных. Я не скрываю! А он съедаем был тщеславием! Любой ценой – лишь попасть в la creme de la noblesse.[5] Он и писал-то затем! Славы Баркова ему было мало, мало потешать юнкеров да гусар непечатными стихами, так он через имя нашего несравненного Пушкина решил купить себе славу. Задел общество – глядишь, оно тебя и заметило. Расчет, один холодный расчет!..
Кушинников. Прелюбопытно!.. Но, однако, согласитесь, без таланта не успеешь в таком предприятии, и наши столичные литераторы высоко ставят… ставили его способности…
Мартынов. Кто у пас без способностей!.. На что только направить!.. Нет, я не говорю, я читал, я все читал… Но… Когда знаешь личность человека и прочитаешь «Демона» или… Ну, «Бородино», оно неплохо, хорошо… Но «Демона»… (Смеется.) Прошу извинить, это вызывает смех. Или раздражение… Маёшка и Демон – ну – не укладывается! (Смеется.) «Уланша» – вот это куда! Это его истинное лицо!
Кушинников. Но можно посчитать оно и за шалость, – молодость должна перебеситься.
Мартынов. Э, тут другое! Совсем другое. Возьмите Пушкина, он в эти леты-то воспевал женщину. Как богиню! Он вложил нежность и неиспорченность своей души в женский идеал. А он? Неприлично произнесть!
Кушинников. Вы знали его издавна?
Мартынов. Да. То бишь не так чтобы… Кстати, хочу дополнить: мы все писали стихи, подряд, многие и поныне продолжают, и первенство его тогда не определялось… Мы… я…
Кушинников. Прошу простить, я вспомнил: сказывали, Жорж Дантес тоже говорил, что таких, как Пушкин, у него в Париже на каждом шагу… Нет-нет, не возьмите в упрек.
Мартынов (кичливо). Я знавал Дантеса, при чем тут Дантес!
Кушинников. Понимаю, понимаю, вы имели поединок не с сочинителем Лермонтовым, а с поручиком Тенгинского полка, вашим сотоварищем.
Мартынов. Да! Да! И я думаю, у нас равное положение, хоть я и в отставке майором, а он… В душе продолжаю числить себя кавалергардом, – как и он, полагаю, не забыл гвардии… Дантес! Еще не хватало!.. Прошу простить. (Раскуривает трубку.)
Пауза.
…Конечно, с поручиком!.. Теперь, господин подполковник, все пишут, все сочинители! У меня вон своего полон сундучок. Подумаешь!..
Кушинников. Прелюбопытно. Чрезвычайно. Никак не полагал столь глубокого анализа…
Мартынов (усмехнувшись). У меня достало время подумать.
Кушинников (в тон). Нет худа без добра. Нет, видите ли, вы меня даже разволновали. Мое мнение было несколько иным, и ваш противник рисовался мне, признаться, в свете более идеальном. Уже одно внимание нашего ведомства к его личности…