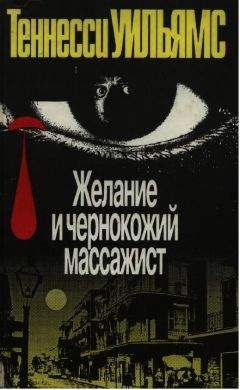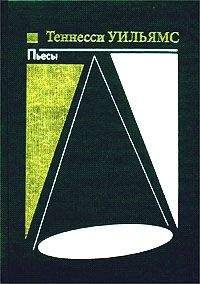За прошедшие пять лет он подурнел. Когда ничего не меняется, то и однообразие становится достоянием. Потому-то общество наращивает жир. Заполняет им свободное пространство. В том подвале мистер Мэйсон и потолстел. Раз за разом уносили в ящиках достоинства его молодости и оставляли взамен лишь жалкие центы. В седьмом отделе теперь работает другая. Что ж, пусть у нее теперь будут все эти удовольствия и мистер Мэйсон впридачу. Отдала ей ножницы и катушку с клейкой лентой. Скоро у нее появится уверенность и она станет во всем разбираться. Полетит вперед мощными уверенными взмахами весел. Совсем как я в блеске сегодняшнего утра! Я, я — красное полотнище флага! И меня никто не остановит, пока я не…
Она несколько сбилась с пути и очутилась лицом к лицу с гигантской конной статуей. Правда, гранитный пьедестал невысокий — на уровне ее подбородка, и копыта можно потрогать. Ей показалось, что конь вот-вот ее затопчет. Стала рассматривать статую — от старости та вся позеленела. Всадник с щитом и поднятым вверх мечом. Взгляд свирепый и неотразимый. Кто этот незнакомец, этот гигант, с грозным видом восседающий на коне? Опустила глаза и стала искать название. Святой Людовик. А, значит, вот это кто — в честь него и назван этот город: Сент-Луис! Нет ничего удивительного в том, что ей стало тяжело дышать — она добралась до самого высокого места в парке. И теперь если она посмотрит в другом направлении, то город, названный в честь этого безжалостного всадника, будет лежать к востоку до самой реки. В ту сторону она не обернулась — город ее никогда не интересовал. Достаточно этого ужасного всадника, возвышающегося над людьми, чтобы почувствовать город. Ее надежда умерла в одном из подвалов этого города, а вера — в одной из его самых красивых церквей. Любовь же не пережила и поездки по нему. Она не повернется, чтобы посмотреть на распростертый город. Вместо этого пойдет к фонтану. Уже не так быстро. «А что это я тащу за собой? О, двадцать восемь лет — какой груз!»
А вот и фонтан. Но нет, это не фонтан, а просто цементная чаша, откуда пьют воробьи. Но даже воробьев обманывают — там не вода, а несколько упавших с дуба и уже разлагающихся листьев. Зеленых. А я не привыкла к этому цвету. С зеленым надо поосторожнее. Набрасываться на него нельзя — его надо вбирать понемногу: как воробьи пьют из чаши, если в ней есть вода. Ну а если слишком быстро погрузиться в зеленую пучину? Все мужчины — и искатели приключений, и пилигримы — знают, что зеленая сбивает с ног и уносит под стол. Зеленому цвету нельзя доверять, он подавляет. Утлая лодчонка, которую в сумерках мальчишка спускает на воду, в большей безопасности, чем я, попав в эту зелень, превращающуюся в тлен. Теперь я иду медленно. Земля все еще горизонтальна. Только ужасно ветрено. Огромное небо позади, и огромное небо — впереди. Но оно приветливее, чем эта зеленая лавина. Ну, и куда она делась, юная небесная странница, невинно обнаженная, такая изящная? О да, теперь вижу. Она слева, далеко уплыла. А я? Я пришла к…
Нет. Сядь на скамейку и постарайся дышать ровно…О, какая боль! Примерно такую она испытывала в школе, когда делали прививки.
И вдруг Анна — сама! — превратилась в фонтан! (Да не в сухой — сухим-то птички были недовольны: попить не удалось!) Губы захлестнул океан алой пены. О-о! И ее душа в утлой лодчонке пустилась путешествовать по этому океану…
Зелень листьев, океан алой крови — они слились и подплыли к бессмертному голубому, омывая и лаская его. И стали флагом. Только кто это понимает?
Зимой тридцать девятого года в Новом Орлеане на углу Кэнал-стрит и одной из этих улиц, которые узким клином впадают в старую часть города, обычно дежурили трое мужчин-проституток. Двое, ребята лет семнадцати, достойны лишь беглого упоминания, зато третьего — самого старшего из них — невозможно было обойти вниманием. Его звали Оливер Уайнмиллер. До того как потерять руку, он был чемпионом Тихоокеанского флота среди боксеров-полутяжеловесов. И теперь выглядел как статуя Аполлона с разбитой рукой; его безразличное, равнодушное отношение ко всему происходящему еще более усиливало сходство со статуей.
В то время как двое юнцов в поисках добычи с резвостью воробьев носились по улицам, залетая то в один бар, то в другой, Оливер стоял на месте и ждал, пока с ним заговорят. Сам он первым никогда не заговаривал и ни к кому не «клеился», даже взглядом. Казалось, он смотрел поверх голов с безразличием, которое не было ни напускным, ни мрачным, ни высокомерным, — просто ему было все равно. Погода его почти не волновала. Когда шел дождь и с залива дул холодный ветер, юнцы в своих поношенных пиджачках втягивали головы в плечи и дрожали; их как будто не было видно; Оливер же оставался в нижней рубашке и джинсах, которые от долгой носки и многократной стирки стали почти белыми; в этой облегающей тело одежде его можно было принять за изваяние.
На углу происходили такие разговоры:
— Парень, а ты не боишься простудиться?
— Нет, я не простужаюсь.
— Но когда-то это может произойти.
— В принципе, конечно.
— Ну, значит, надо пойти согреться.
— Куда?
— Ко мне домой.
— Где это?
— Тут, неподалеку. В Квартале. Мы возьмем такси.
— Лучше пошли пешком, а деньги за такси вы отдадите мне.
Оливер стал калекой два года назад. Это случилось в морском порту Сан-Диего, когда взятая в наем машина, в которой он ехал с приятелями-моряками на скорости сто двадцать километров в час, врезалась в стену подземного тоннеля. Двое моряков погибли на месте, третий получил перелом позвоночника и до конца жизни вынужден ездить в инвалидной коляске, а Оливер отделался легче всех — только потерей руки. Ему было тогда восемнадцать, и жизненного опыта он почти не имел.
Он родился и вырос на хлопковых полях Арканзаса, где знал только тяжелую работу под солнцем и нехитрые развлечения с местными девушками по субботам и воскресеньям. Однажды, правда, он неожиданно завел роман с замужней женщиной, мужу которой возил дрова. Она первая заставила его осознать, что он способен вызывать необычное возбуждение. Чтобы прекратить эту бесперспективную связь, он убежал из дома и попал на военно-морскую базу в Техасе. В период обучения, пока Оливер еще был «салагой», он начал заниматься боксом; вскоре прекрасно проявил себя и стал видным претендентом на звание чемпиона флота. Жить стало хорошо и просто — ведь думать-то ни о чем не надо было! Требовалось только следить за тем, чтобы тело и нервы были в порядке. Но когда он потерял руку, то остановился в росте и как атлет, и как человек, и оказался вычеркнутым из той жизни, к которой готовился.
Словами объяснить ту психологическую перемену, которая произошла в его организме после получения увечья, он не мог. Знал, что потерял правую руку, но не отдавал себе отчета в том, что вместе с рукой пропал и стержень его бытия. Однако бессознательное темное чувство, которое нельзя объяснить, вырвалось из тайных глубин и изменило его гораздо быстрее, чем зажила его культя. Он никогда не говорил себе: «Я — конченый!», но подсознательно это чувствовал, и поэтому, когда вышел из больницы, уже был готов к преступным действиям.
Он отправился в путь и сначала приехал в Нью-Йорк. Именно там впервые познал то, что в дальнейшем стало его натурой. Другой молодой бродяга, более опытный, прикинул его товарную стоимость и научил, как себя предлагать. За неделю однорукий юноша полностью адаптировался к вкусам обитателей «дна» — Таймс-Сквер, бродвейских баров — и любителей вечерних прогулок по аллеям Центрального парка. Вначале новое дело показалось ему необычным, но шок был минимальным. Потеря руки, очевидно, притупила его чувства. Не так давно он сбежал из дома, когда любовные желания женщины приобрели противоестественные формы; теперь же он не чувствовал никакого стыда, даже когда туалетное мыло и горячая вода до конца не смывали следов греха.
Когда лето прошло, он подался на юг, какое-то время жил в Майами и там разбогател. Завел знакомство с богатыми спортсменами и всю осень ходил по рукам. Денег у него водилось больше, чем он мог истратить — на одежду и развлечения. Однажды вечером на яхте, принадлежавшей какому-то брокеру и стоявшей недалеко от гавани Палм-Бич, он напился и по какой-то необъяснимой причине стал бить хозяина медным книгодержателем; последний, восьмой, удар расколол ему череп. Оливер бросился в воду, поплыл к берегу, собрал вещи и дал деру. На этом относительно благополучное существование однорукого закончилось, ибо с того времени он вынужден был постоянно менять местожительство, стараясь затеряться среди бродяг в каком-нибудь большом городе.
Однажды зимним новоорлеанским вечером, вскоре после «Марди-Гра», когда он стал подумывать о переезде на север, его забрали и отвезли в тюрьму, причем не за проституцию, а по подозрению в убийстве хозяина яхты в Палм-Бич. И через пятнадцать минут он сознался.