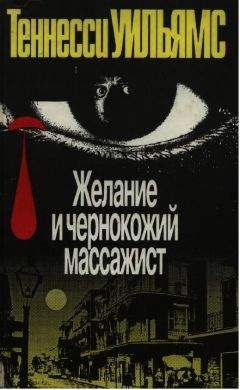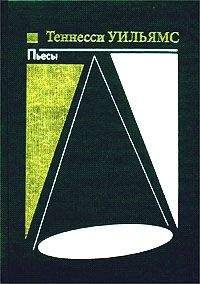Когда лето прошло, он подался на юг, какое-то время жил в Майами и там разбогател. Завел знакомство с богатыми спортсменами и всю осень ходил по рукам. Денег у него водилось больше, чем он мог истратить — на одежду и развлечения. Однажды вечером на яхте, принадлежавшей какому-то брокеру и стоявшей недалеко от гавани Палм-Бич, он напился и по какой-то необъяснимой причине стал бить хозяина медным книгодержателем; последний, восьмой, удар расколол ему череп. Оливер бросился в воду, поплыл к берегу, собрал вещи и дал деру. На этом относительно благополучное существование однорукого закончилось, ибо с того времени он вынужден был постоянно менять местожительство, стараясь затеряться среди бродяг в каком-нибудь большом городе.
Однажды зимним новоорлеанским вечером, вскоре после «Марди-Гра», когда он стал подумывать о переезде на север, его забрали и отвезли в тюрьму, причем не за проституцию, а по подозрению в убийстве хозяина яхты в Палм-Бич. И через пятнадцать минут он сознался.
Оливер вряд ли долго пытался хитрить и вилять.
Чтобы развязать язык, ему дали полстакана виски, и он подробно рассказал о вечеринке на яхте брокера. Оливеру и женщине-проститутке заплатили по сотне долларов каждому за участие в съемках порнофильма, кадры которого должны были сопровождаться непристойным комментарием. Пьяные режиссеры раздели его и девушку перед камерой и заставили проделать такое, чем люди обычно занимаются без свидетелей. Но до конца съемки довести не удалось. К своему удивлению, Оливер вдруг взбунтовался, ударил женщину, пнул камеру ногой и выскочил на палубу. Там он понял, что, если останется на яхте, совершит нечто еще более ужасное. Но когда все уплыли на катере к берегу, Оливер остался, потому что хозяин ему щедро заплатил и пообещал еще.
— Когда мы оказались вдвоем, я понял, что ему несдобровать, — написал Оливер в объяснительной записке полиции; она потом использовалась прокурором в качестве доказательства предумышленности убийства.
На процессе все свидетельствовало против него. Его показания не могли перевесить показаний именитых свидетелей, которые клялись, что никаких безобразий на яхте не происходило (ни о порнофильме, ни о женщине-проститутке никто и слыхом не слыхивал). А так как Оливер снял с убитого бриллиантовое кольцо и забрал бумажник с деньгами, он был обречен — приговорен к электрическому стулу.
Арест убийцы брокера широко освещался в прессе. Лицо однорукого смотрело со страниц газет на тех молодых людей, которым довелось с ним встречаться; никто из них его не забыл; высокий светловолосый юноша, который был боксером до того как потерял руку, казался им планетой, а они — его спутниками. А теперь его где-то схватили и он должен умереть. И в некотором смысле опасность вновь возвратила его к ним — теперь он уже не стоял на шоссе и не несся куда-то в грузовиках, а был заперт в камере и ожидал конца.
Они стали писать ему письма. Каждое утро тюремщик просовывал их сквозь решетку. Письма подписывались фиктивными именами, и если Оливер захотел бы ответить, то ему пришлось бы писать по адресу почтовых отделений тех больших городов, в которых он имел клиентуру. Написаны они были на прекрасной белой бумаге, от которой иногда исходил легкий аромат духов; в некоторые конверты были вложены деньги. Содержание их почти не отличалось друг от друга. Все писали, что были поражены, когда узнали о случившемся, и до сих пор не могут поверить; это для них — дурной сон и так далее. Все вспоминали о совместно проведенных ночах (или часах) и писали о том, что это были лучшие минуты их жизни; о том, что есть в нем что-то такое, кроме его физических данных (что тоже, разумеется, очень важно), из-за чего он не выходит у них из головы.
То, что они имели в виду, было шармом побежденного — он действовал как бальзам для тех, кто считал свою позицию активной. Это качество редко сочетается с молодостью и физической красотой, но у Оливера было и то, и другое, и третье; из-за этого его и не могли забыть. И будучи приговоренным к смерти, Оливер стал для своих корреспондентов невидимым священником, который терпеливо выслушивает признание ими своей вины. Стандартные отговорки, вроде «не знал», «не понимал», отбрасывались, а на бумагу, как вода из прорванной плотины, выплескивались потоки их горестей и печалей, а также восклицания, типа «Меа culpa!»[84]. Для некоторых он стал даже архетипом Спасителя-На-Кресте, который добровольно принял на себя грехи их мира, — они будут смыты и очищены его страданиями и кровью. Эти письма приводили заключенного в ярость — он рвал их и топтал ногами, а клочки бросал в мусорное ведро.
В соответствии с неумолимым законом Оливеру пришлось ожидать казни несколько месяцев — летних месяцев. А так как делать в душной камере было нечего, он стал думать о своей прежней жизни, возвращаться к ней в воспоминаниях, и поводом для них постепенно стали эти письма.
Он сидел на раскладном стуле или лежал на койке в этом «доме смерти», и ему казалось, что нет большой разницы между тем, что происходит сейчас, и тем временем, когда он стоял у каменной стены на углу Кэнал-стрит в насквозь промокших джинсах и нижней рубахе, ожидая, что кто-нибудь попросит у него прикурить или спросит, который час. Ему выдали колоду карт со следами шоколада и зачитанные книги комиксов — чтоб быстрее летело время. Еще в конце коридора было радио, однако Оливер его не слушал, равно как и не смотрел цветных картинок из мира детства, которыми пестрели книги комиксов. И лишь письма — лишь они продолжали его интересовать.
Через некоторое время он прочел все письма, перетянул их резинкой и положил на полку. Однажды ночью, не соображая, что делает, он полез за ними, взял, сунул под подушку и заснул, положив на них руку.
За несколько недель до казни Оливер начал отвечать тем корреспондентам, кто особенно жаждал ответа. Он писал мягким графитовым карандашом, который таял на глазах, потому что ломался, когда Оливер неосторожно на него нажимал. Писал на манильской бумаге, которую клал в специальные (правительственными органами проштампованные) конверты и отправлял в те города, где когда-то ему жилось лучше всего.
Из родных у него в живых никого не осталось, поэтому тюремные письма стали его первым эпистолярным опытом. Сначала дело продвигалось с трудом, и даже простые предложения требовали напряжения всех мышечных усилий его одной руки, но потрясающе скоро дело пошло, и фразы стали струиться, как живая вода из источника; в них зазвучали экспрессивные нотки и слышались просторечные выражения, характерные для южан — выходцев из глуши; к ним присоединялись хлесткие идиомы из жаргона деклассированных элементов, шоферов и моряков — из того мира, в котором ему доводилось вращаться. Встречались и те живые и теплые словечки, которые слетают с губ под влиянием алкоголя и дружеского общения; употреблялись и «chansons de geste»[85], которые то и дело исполняют американцы в барах или спальнях гостиниц. Он часто пользовался популярным для комиксов символом смеха «ха-ха», рисовал его с двумя вопросительными и восклицательными знаками, после которых шли звезды и спирали. Перенести все это на бумагу — значило ослабить внутреннее напряжение, грозившее взрывом. Нередко письма сопровождались иллюстрацией — рисунком стула, на котором его должны были казнить.
Вот одно из его писем.
«Да, я хорошо тебя помню. Мы познакомились в парке позади общественной библиотеки или в туалете на автовокзале компании «Грейхаунд». Вас так много — вот я и путаю. Но тебя помню отчетливо. Ты не то спросил у меня время, не то захотел прикурить, мы стали болтать, и вдруг — что такое? — уже кайфуем у тебя дома. А как сейчас в Чикаго — ведь опять лето? Отлично помню, как подуло с озера, это было очень в жилу после бутылки пятизвездного коньяка — мы с тобой ее раздавили. А теперь послушай, что скажу тебе: «Ну и жарко в этом холодильнике!» Холодильничек-то ничего. Ха-ха! Я твердо знаю: скоро мне будет еще жарче, прежде чем станет совсем холодно. Понимаешь, о чем я? Об этом электрическом стуле, он только и ждет, когда я на него плюхнусь. Это будет десятого августа, приглашаю, только вряд ли тебя пустят. Зрелище для избранных. Наверное, тебе интересно, боюсь я или нет. Да, боюсь. Стараюсь не думать об этом. Пока была рука, я был боксером, а потом во мне что-то сломалось, не знаю что, но весь мир осточертел. А на себя стало наплевать. Уважение к себе потерял, это точно.
Я мотался по стране просто так, безо всяких планов, ездил, чтобы не застояться. Знакомился с мужчинами везде, куда приезжал. Ну, в первую очередь, чтобы было, где переночевать, чтобы накормили и напоили. Но никогда не думал, что для них контакт со мной так важен, а теперь все эти письма, и твое тоже, это доказывают. У меня сейчас такое ощущение, что всем этим людям, чьи лица и имена я сразу же, как мы расставались, забывал, я что-то должен. Не деньги — чувства. А ведь с некоторыми я поступал по-свински: уходил, не попрощавшись, хотя они были очень радушны, — и даже кое-что у них спер. Не представляю, как меня можно простить. Если б я знал, когда был на свободе, что у этих людей, с которыми я знакомился на улице, настоящие чувства, может быть, у меня было бы больше желания жить. А сейчас положение безнадежное. Очень скоро для меня все кончится. Ха-ха.