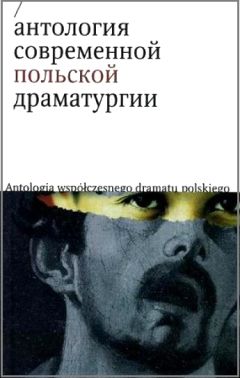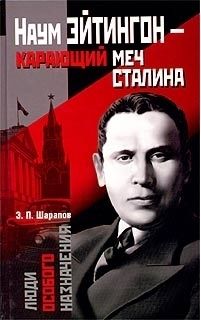<1976>
Ах, откуда у меня грубые замашки?!
Походи с мое, поди даже не пешком...
Меня мама родила в сахарной рубашке,
Подпоясала меня красным ремешком.
Дак откуда у меня хмурое надбровье?
От каких таких причин белые вихры?
Мне папаша подарил бычее здоровье
И в головушку вложил не «хухры-мухры».
Начинал мытье мое с Сандуновских бань я, —
Вместе с потом выгонял злое недобро.
Годен – в смысле чистоты и образованья,
Тут и голос должен быть – чисто серебро.
Пел бы ясно я тогда, пел бы я про шали,
Пел бы я про самое главное для всех,
Все б со мной здоровкались, все бы мне прощали,
Но не дал Бог голоса – нету, как на грех!
Но воспеть-то хочется, да хотя бы шали,
Да хотя бы самое главное и то!
И кричал со всхрипом я – люди не дышали,
И никто не морщился, право же, никто!
От ко<го> же сон такой, да вранье да хаянье!
Я всегда имел в виду мужиков, не дам.
Вы же слушали меня, затаив дыханье,
И теперь ханыжите, – только я не дам.
Был раб Божий, нес свой крест, были у раба вши.
Отрубили голову – испугались вшей.
Да поплакав, разошлись, солоно хлебавши,
И детишек не забыв вытолкать взашей.
<1976>
...Когда я óб стену разбил лицо и члены
И все, что только было можно, произнес,
Вдруг – сзади тихое шептанье раздалось:
«Я умоляю вас, пока не трожьте вены.
При ваших нервах и при вашей худобе
Не лучше ль – чаю? Или – огненный напиток...
Чем учинять членовредительство себе —
Оставьте что-нибудь нетронутым для пыток».
Он сказал мне: «Приляг,
Успокойся, не плачь!»
Он сказал: «Я не врач —
Я твой верный палач.
Уж не за полночь – за три, —
Давай отдохнем:
Нам ведь все-таки завтра
Работать вдвоем...»
Чем черт не шутит – может, правда выпить чаю,
Раз дело приняло подобный оборот?
«Но только, знаете, весь ваш палачий род
Я, как вы можете представить, презираю!»
Он попросил: «Не трожьте грязное белье,
Я сам к палачеству пристрастья не питаю.
Но вы войдите в положение мое:
Я здесь на службе состою, я здесь пытаю.
Молчаливо, прости,
Счет веду головам.
Ваш удел – не ахти,
Но завидую вам.
Право, я не шучу —
Я смотрю делово:
Говори – что хочу,
Обзывай хоть кого...»
Он был обсыпан белой перхотью, как содой,
Он говорил, сморкаясь в старое пальто:
«Приговоренный обладает как никто
Свободой слова – то есть подлинной свободой».
И я избавился от острой неприязни
И посочувствовал дурной его судьбе.
Спросил он: «Как ведете вы себя на казни?»
И я ответил: «Вероятно, так себе...
Ах, прощенья прошу, —
Важно знать палачу,
Что когда я вишу —
Я ногами сучу.
Кстати, надо б сперва,
Чтоб у плахи мели, —
Чтоб, упавши, глава
Не валялась в пыли».
Чай закипел, положен сахар по две ложки.
«Спасибо...» – «Что вы! Не извольте возражать
Вам скрутят ноги, чтоб сученья избежать.
А грязи нет – у нас ковровые дорожки».
«Ах, да неужто ли подобное возможно!»
От умиленья я всплакнул и лег ничком, —
Потрогав шею мне легко и осторожно,
Он одобрительно поцокал языком.
Он шепнул: «Ни гугу!
Здесь кругом – стукачи.
Чем смогу – помогу,
Только ты не молчи.
Стану ноги пилить —
Можешь ересь болтать, —
Чтобы казнь отдалить,
Буду дальше пытать».
Не ночь пред казнью – а души отдохновенье, —
А я уже дождаться утра не могу.
Когда он станет жечь меня и гнуть в дугу,
Я крикну весело: «Остановись, мгновенье!»
И можно музыку заказывать при этом —
Чтоб стоны с воплями остались на губах, —
Я, признаюсь, питаю слабость к менуэтам.
Но есть в коллекции у них и Оффенбах.
«Будет больно – поплачь,
Если невмоготу», —
Намекнул мне палач.
«Хорошо, я учту».
Подбодрил меня он,
Правда, сам загрустил:
«Помнят тех, кто казнен,
А не тех, кто казнил».
Развлек меня про гильотину анекдотом,
Назвав ее карикатурой на топор.
«Как много миру дал голов французский двор!» —
И посочувствовал убитым гугенотам.
Жалел о том, что кол в России упразднен,
Был оживлен и сыпал датами привычно.
Он знал доподлинно – кто, где и как казнен,
И горевал о тех, над кем работал лично.
«Раньше, – он говорил, —
Я дровишки рубил, —
Я и стриг, я и брил,
И с ружьишком ходил,
Тратил пыл в пустоту
И губил свой талант, —
А на этом посту —
Повернулось на лад».
Некстати вспомнил дату смерти Пугачева,
Рубил – должно быть, для наглядности – рукой;
А в то же время знать не знал, кто он такой,
Невелико образованье палачово.
Парок над чаем тонкой змейкой извивался.
Он дул на воду, грея руки о стекло, —
Об инквизиции с почтеньем отозвался
И об опричниках – особенно тепло.
Мы гоняли чаи, —
Вдруг палач зарыдал:
Дескать, жертвы мои —
Все идут на скандал.
«Ах вы тяжкие дни,
Палачова стерня!
Ну за что же они
Ненавидят меня!»
Он мне поведал назначенье инструментов, —
Всё так нестрашно, и палач – как добрый врач.
«Но на работе до поры все это прячь,
Чтоб понапрасну не нервировать клиентов.
Бывает, только его в чувство приведешь,
Водой окатишь и поставишь Оффенбаха —
А он примерится, когда ты подойдешь,
Возьмет и плюнет, – и испорчена рубаха!»
Накричали речей
Мы за клан палачей,
Мы за всех палачей
Пили чай – чай ничей.
Я совсем обалдел,
Чуть не лопнул крича —
Я орал: «Кто посмел
Обижать палача!..»
...Смежила веки мне предсмертная усталость,
Уже светало – наше время истекло.
Но мне хотя бы перед смертью повезло:
Такую ночь провел – не каждому досталось!
Он пожелал мне доброй ночи на прощанье,
Согнал назойливую муху мне с плеча...
Как жаль – недолго мне хранить воспоминанье
И образ доброго, чудного палача!
1977
Упрямо я стремлюсь ко дну —
Дыханье рвется, давит уши...
Зачем иду на глубину —
Чем плохо было мне на суше?
Там, на земле, – и стол, и дом,
Там – я и пел, и надрывался;
Я плавал все же – хоть с трудом,
Но на поверхности держался.
Линяют страсти под луной
В обыденной воздушной жиже, —
А я вплываю в мир иной:
Тем невозвратнее – чем ниже.
Дышу я непривычно – ртом.
Среда бурлит – плевать на среду!
Я погружаюсь, и притом —
Быстрее, в пику Архимеду.
Я потерял ориентир, —
Но вспомнил сказки, сны и мифы:
Я открываю новый мир,
Пройдя коралловые рифы.
Коралловые города...
В них многорыбно, но – не шумно:
Нема подводная среда,
И многоцветна, и разумна.
Где ты, чудовищная мгла,
Которой матери стращают?
Светло – хотя ни факелá,
Ни солнца
мглу не освещают!
Все гениальное и не-
Допонятое – всплеск и шалость —
Спаслось и скрылось в глубине, —
Все, что гналось и запрещалось.
Дай бог, я все же дотону —
Не дам им долго залежаться! —
И я вгребаюсь в глубину,
И – все труднее погружаться.
Под черепом – могильный звон,
Давленье мне хребет ломает,
Вода выталкивает вон,
И глубина не принимает.
Я снял с острогой карабин,
Но камень взял – не обессудьте, —
Чтобы добраться до глубин,
До тех пластов, до самой сути.
Я бросил нож – не нужен он:
Там нет врагов, там все мы – люди,
Там каждый, кто вооружен, —
Нелеп и глуп, как вошь на блюде.
Сравнюсь с тобой, подводный гриб,
Забудем и чины, и ранги, —
Мы снова превратились в рыб,
И наши жабры – акваланги.
Нептун – ныряльщик с бородой,
Ответь и облегчи мне душу:
Зачем простились мы с водой,
Предпочитая влаге – сушу?
Меня сомненья, черт возьми,
Давно буравами сверлили:
Зачем мы сделались людьми?
Зачем потом заговорили?
Зачем, живя на четырех,
Мы встали, распрямивши спины?
Затем – и это видит Бог, —
Чтоб взять каменья и дубины!
Мы умудрились много знать,
Повсюду мест наделать лобных.
И предавать, и распинать,
И брать на крюк себе подобных!
И я намеренно тону,
Зову: «Спасите наши души!»
И если я не дотяну —
Друзья мои, бегите с суши!
Назад – не к горю и беде,
Назад и вглубь – но не ко гробу,
Назад – к прибежищу, к воде,
Назад – в извечную утробу!
Похлопал по плечу трепанг,
Признав во мне свою породу, —
И я – выплевываю шланг
И в легкие пускаю воду!..
Сомкните стройные ряды.
Покрепче закупорьте уши:
Ушел один – в том нет беды, —
Но я приду по ваши души!
1977