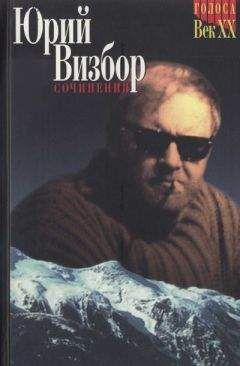— Голубоглазый? Вот примета! — говорил Слава. — Ну бабы — куры! Сколько здесь голубоглазых! Еще подъедет на склоне какой-нибудь бугай… голубоглазый… привет вам от тети! Теперь только и оглядывайся. Я вообще этого очень не люблю — иметь дело с мужьями, как с настоящими, так и бывшими. Но Борька, Борька-то, подлец! Руки чуть не ломал!
— Он же выполнял инструкции, — сказал я.
Мы шли по дороге, окаймленной высокими соснами и, по всем правилам классической композиции, заканчивающейся заснеженной вершиной. На большой высоте дорогу пересекал самолет, за которым тянулась сверкающая нитка инверсионного следа. Меня томил этот путь, я стал думать о самолете, о его марке, о том, как пилот сейчас, сидя верхом на этой жуткой турбине, сверяет курсовые, поглядывает на показатель числа Маха; как на аэродроме, уже совершенно весеннем, у каких-то сборно-щитовых домиков, где шифер нагревается к вечеру, а степной горизонт дрожит в токах восходящего от нагретой земли воздуха… есть окошко с занавеской и что вот там есть медсестра в поликлинике… она сейчас принимает больного… и знает, что ее муж… ну, предположим, не муж, а жених сейчас в полете… А, ерунда какая!
— Вот что, Слава, — сказал я. — Вы не терзайтесь догадками. Бывший муж Ларисы — это я. Я очень любил Ларису и не хотел бы ничего знать о ее дальнейшей жизни.
Слава чуть отшатнулся от меня, словно я собирался его ударить. Пожал плечами.
— Се ля ви, — сказал он довольно оригинально.
— Вот именно, — сказал я и дальше уже пошел в одиночестве.
Я просыпаюсь. До подъема — две минуты. Смотрю в окно. Прямоугольник окна, как рама картины, ограничивает природу. В правом верхнем углу поблескивает голубоватой сталью арктический лед висячего ледника. От него ниспадает вниз, разрезая лес, растущий на скалах, снежный кулуар, дорога лавин. За краем горы, на ровном фоне предрассветного неба и дальше, там, где восходит заря, стоят, перерезанные кисейными платками туманов, горы такого нежного оттенка, что могут быть изображены лишь тонкой акварельной кистью.
(Напротив меня на постели сидит и одевается огромный лось, инструктор Ермаков, человек редкой доброты и здоровья. Паша, говорит он мне, не дрыхни!)
В левой части картины, едва не цепляясь иголками о стекло, стоит сосна, совершенно обглоданная ветрами с северной стороны. Композиция замечательная. Все вставлено в раму и окантовано. Но вот подлетел утренний ветерок, сосна моя покачнулась, снег с ее веток сорвался и мелькнул мимо стекла, картина стала окном. Только окном. (Мы с Ермаковым вышли из номера и пошли на зарядку.) Да, думал я, сбегая по лестнице, я рисую в своем воображении фальшивые картины жизни. Но вот дунет слабый ветерок реальности, и, казалось бы, стройная картина превращается в маленькую часть огромной панорамы жизни, которая не вписывается ни в раму, ни в окно, ни в любые ограничения. (Мы бежали с Ермаковым по снежной просеке под золотистыми вершинами сосен — прекрасно!) Она не любит меня, не любит, я должен осознать, что это правда, что это истина. Никаких других картин, кроме правдивых, природа не создает. Природе свойственно только одно состояние — состояние самой глубокой и чистой правды. Ты — ее часть. Ты в учениках у нее. Отрешись от надежд. Надежда есть стремление к обману. Собственно говоря, надежда это и есть обман. (Ермаков бежал ровно, дышал ровно, будто спал, загонял меня вверх по снежной дороге.)
Это была ее идея — переночевать в кафе, чтобы позавтракать с «видом на Эльбрус», как она сказала. Все так и было: когда остановились канатные дороги и схлынули вниз и «чайники», и лыжники, настала тишина. Вся жизнь спустилась в Баксанскую долину, и в синей ее голубизне уж зажигались первые звездочки огней. За вершиной Андарчи разлилось розовое зарево, которое постепенно становилось фиолетовым, и это ежевечернее, ежевесеннее движение красок можно было наблюдать неустанно, что мы и делали. Потом был бесконечный чай, и прямо возле полной луны висели две спелые планеты. Потом была ночь. Луна, совершенно не желавшая с нами расставаться, вонзалась сквозь высокие узкие окна косыми бетонными пилонами, выхватывая на нарах куски простынь, белые плечи, груды ботинок на полу. Всю ночь луна шла над вершинами Донгуза и Накры, слева направо, и белые бетонные столбы ее света медленно двигались по комнате, не оставляя без внимания ничего. Было наиполнейшее полнолуние, была настоящая чегетская луна, половодье молочного света, мать бессонницы, тихая песня иных миров. Всю ночь мы не спали, не разговаривали, лежали и смотрели друг на друга, и Лена иногда беззвучно плакала, не знаю отчего, может быть, и от счастья. Сначала это выглядело как имитация чего-то прекрасного, ну как, скажем, три лебедя на пруду у подножия замка: ночь, прекрасное лицо, лунный свет, ржаной водопад волос, тихие слезы. Оперетта. К середине ночи это стало оперой. Все стало привычным, настоящим, и бутафорский свет луны заключал в себе истину, будто никогда на земле не было другого света. В ночи раздавались обрывки смеха… звучали странные мелодии… что-то позвякивало и побрякивало… кто-то ехал на велосипеде, уж не мальчик ли? Да, это он стоял в косом бетонном столбе лунного света и глядел на нас. Боже, какая луна! Уверяю вас, что астрономы ошибаются: у Земли есть еще один спутник, совершенно отдельный, штучный, абсолютно не похожий на то, что светит на земли, лежащие вне пределов чегетской горнолыжной трассы.
Утром мы открыли ротонду кафе и сели завтракать; перед нами был рассветный Эльбрус, на столе был завтрак: яичница, сало, хлеб, чай, сахар. Грубо говоря, все это вместе могло быть названо счастьем.
— Я уезжаю, Леночка, — сказал я. — Рога трубят.
— Ты меня не любишь?
— Нет. Я люблю другого человека и ничего не могу с собой поделать.
— У тебя появились какие-то шансы?
— Ни одного. Да я их и не ищу. И не буду искать.
— А если она попытается к тебе вернуться?
— Это ее личное дело. Я не вернусь к ней никогда.
— Почему же ты говоришь, что любишь ее?
— Потому что я ее люблю.
— Может быть, ты любишь не ее, а свою любовь к ней?
— Может быть. Ты знаешь, Лена, я за очень многое благодарен тебе…
— Не надо слов. Мы до этого вели разговор в хорошем стиле.
Она говорила все очень спокойно, будто речь шла о деталях горнолыжной техники. Выглядела свежо, лунная ночь не оставила на ее лице никакой печати. Ее спокойствие стало понемногу пугать меня. Я намеревался сказать ей все это и был готов к различного рода протуберанцам. Я уверял себя, что должен быть тверд, я говорил правду, но она была спокойна, и холод расставания стал наполнять меня, будто где-то внутри открылся старомодный медный краник с ледяной водой.
— Что ты намерен делать, Паша?
— Стану озером. Буду лежать и отражать облака.
— Будешь ждать новой любви?
— Надежды нет. Может быть, произойдет чудо. Не моя и не твоя вина, что я встретился тебе таким уродом. Как в старом анекдоте — она жила с одним, но любила другого. Все трое были глубоко несчастны. Что ты будешь делать?
— Я люблю тебя. Банально. Незамысловато. Никакого разнообразия.
Она жалко улыбнулась и пожала плечами. В электрокамине дрогнул свет — это включились подъемные дороги. Завтрак с видом на Эльбрус закончился. Пора было возвращаться в жизнь.
Нина возвращалась из школы. Она торопливо переставляла маленькие валеночки в утоптанном снегу, и тропинка звонко пела, вторя ее шагам. Вечерело. Пройдя мимо длинного забора МТС, Нина остановилась. Сзади, за большим, занесенным снегом амбаром, начиналась степь. Сколько ни иди — не будет ни конца, ни края этим пустым холмам, утопающим в темном тумане вечера. Хоть бы какое-нибудь деревцо, хоть кустик… нет. Снег да снег. Только равнодушные столбы убегают к невидимому, далекому и тоже степному городу. Вот, наверно, в такой степи «замерзал ямщик». Жила и не представляла, что за степь такая…
А впереди — высокий берег большой реки. На длинных склонах оврагов и внизу, у самой реки, улеглось село. Светились окошки под низкими крышами, серый дымок прозрачными столбами уходил в вечернее небо. За белой рекой круг солнца опускался в морозную мглу. И на том берегу — тоже степь. Только в ясные осенние дни на самом горизонте можно было увидеть тоненькую голубоватую полоску дальних лесов.
Ни шума, ни звука. Неживая, гудящая в ушах тишина. Нина поежилась. Зачем она здесь стоит? Надо идти домой, в маленькую теплую комнатку, к старинной высокой кровати, к шаткому столику с журналами «Природа» — ведь первый свободный вечер после целого месяца… А послезавтра Новый год… Что же она хотела сделать? Думала, думала и вот — забыла… Ах, да — зайти к Яше Бурцеву. Он живет в приземистом домике рядом с ней. Учится плохо. Кончается четверть, у него двойка выходит. К тому же он два дня в школу не приходил. Нина представила себе тощенькую фигурку Яши с портфелем на пеньковой веревке через плечо. Когда утром Нина спешит в школу по крутой тропинке, он обгоняет ее по целине и хмуро здоровается: «Здрасте, Нина Ивановна…»