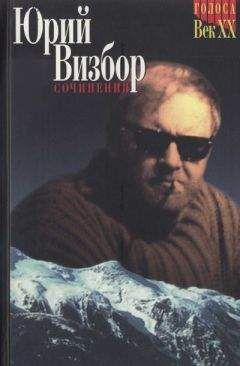— Носки на тебе шерстяные есть? — спросил Роман.
— Есть.
— Снимай.
— Зачем?
— Снимай, говорю. Руки поморозишь.
…Свирепый ветер толкал Василия в бок. Занемели руки в шерстяных носках. Камни, иногда срывавшиеся из-под ног, стремительно уносились в белую преисподнюю, рождая там грохочущие взрывы снежных лавин.
Только к вечеру разведчики добрались до вершины. Она оказалась куполообразным плато, на котором могли бы разместиться человек двадцать. Далеко внизу в серо-фиолетовой глубине плавали молочные облака.
— Кислое дело, — сказал Роман. — Тут можно просидеть неделю и ничего не увидеть… Устал?
— Малость есть.
— Ничего! Сейчас мы с тобой, друг, пещеру такую отроем — дворец!.. А вот к тому краю не подходи! Ступишь два шага — и прямым сообщением на тот свет. Понял?
Когда они отрыли пещеру, было уже совсем темно. Роман заложил вход двумя снежными кирпичами.
В эту ночь Василий спал тем мертвым сном, какой бывает только после тяжелой работы. На рассвете он проснулся от холода. Роман спал. Вася выбрался наружу. Густой туман мчался над снегами. Казалось, что огромная гора летела в бесконечном облаке, разрезая своей вершиной его невесомое тело…
— Туман? — спросил Долина, когда Вася вернулся в пещеру. — Я так и знал. Ну, может, к вечеру рассеется.
Целый день они просидели в пещере. Туман не уходил. Роман рассказывал какие-то альпинистские истории.
Наступила ночь. Разведчики дрожали от холода и сырости. Не спалось. Роман сидел, согнувшись, и что-то писал.
— Ты бы хоть свечку не жег зря, — проворчал Вася. — Что ты там пишешь? Секрет?
— Песню сочиняю, — серьезно сказал Долина.
— Песню? — удивился Вася. — Это что ж, про любовь у тебя песня? Супруге пошлешь?
— Почему супруге? Песни, брат, бывают всякие. Есть про любовь, а есть про войну. А эта про нас с тобой будет.
— Про меня и про тебя?
— Точно! — сказал Долина. — Про тебя и про меня.
— Ну-ка, прочти.
— Тут у меня малость не дописано. Начал я ее еще внизу…
Долина долго шелестел страницами записной книжки.
— Вот! — наконец сказал он, громко откашлялся и стал читать:
На костре в дыму трещали ветки.
В котелке дымился крепкий чай.
Ты пришел усталый из разведки,
Много пил… та-ра-ра-ра-ра… —
Тут не дописано…
Синими, замерзшими руками
Протирал вспотевший автомат
И о чем-то думал временами,
Головой откинувшись назад.
— Ну как?
— Здорово! — сказал Вася. — Просто здорово! Это когда мы с тобой в разведке были? Да?
— Ага… Крепко тогда нам с тобой досталось. Помнишь того рыжего с «парабеллумом»?
— Помню. С усами… Сверху, что ли, он на тебя прыгнул?
— Сверху. Если бы не ты — быть уже Роману Долине в бессрочном отпуску…
— А припев-то есть? — перевел разговор на другую тему Вася. — Или без припева?
— Нет, почему же, с припевом. Вот…
Помнишь, товарищ, вой ночной пурги,
Помнишь, как бежали в панике враги,
Как загрохотал твой грозный автомат,
Помнишь, как вернулись мы с тобой в отряд?
— Про пургу ты хорошо написал, — сказал Вася, — а вот про то, как враги бежали, малость подзагнул… Где ж это они от нас с тобой бежали?
— Не бежали — так побегут. Я ведь, знаешь, что задумал? Оставить эту песню здесь, на вершине.
— Ну и что?
— Уйдем мы с тобой вниз. А война-то когда-нибудь кончится? Немцев прогоним?
— Прогоним.
— Значит, будут они бежать?
— Будут, конечно!
— Молодец, Вася! Прямо философ!
— Ну ладно тебе обзываться-ото!..
Было еще совсем темно, когда Роман и Вася вышли из пещеры, сложили небольшой тур из камней и спрятали туда гранату. Вместо запала в нее были вложены свернутая в трубочку записка о восхождении и текст, к которому за ночь Долина приписал новые слова:
Помнишь, товарищ, белые снега,
Стройный лес Баксана, блиндажи врага,
Помнишь гранату и записку в ней
На скалистом гребне для грядущих дней…
Наступало утро, над горами повис морозный ясный рассвет. Роман долго протирал бинокль, ругая все оптические заводы мира, потом замолчал.
— Вася, — шепотом сказал он. — Немцы.
По белой, покрытой свежим снегом долине Баксана тянулась длинная черная змея.
— Восемь километров, — прикинул Долина. — Перед ними взорванный мост… Мины… Мы успеем!
…Василий Николаевич плохо помнил, как они спускались вниз. Полтора часа продолжалась бешеная гонка. Они скатывались по снежным склонам, пробирались по леднику, цеплялись за ветки деревьев…
А когда выбежали на знакомую полянку и Вася упал на снег, бой был в самом разгаре.
Вася медленно поднялся. Горы качались перед ним, как качели. Самсонов лежал в сугробе за большим камнем и стрелял из ручного пулемета. Долина, припадая на одну ногу, перебегал от дерева к дереву. Вася вынул гранату и пополз к Самсонову…
Немцы отступили через час. Головной отряд прекратил атаки, решив, очевидно, дождаться подхода артиллерии. Самсонов собрал оставшихся в живых. Их оказалось всего восемь человек.
Решили уходить на другую сторону хребта, чтобы там на перевальной точке организовать оборону.
Сержант Роман Долина, раненный в ногу, к вечеру вывел отряд на перевал Хотю-Тау. Глубоко внизу, на дороге, рвались фашистские грузовики с боеприпасами…
Через день Долина был уже в госпитале. Вася остался на перевале. Потом началось наступление, панически бежали остатки дивизии «Эдельвейс»…
В 1944 году Вася получил письмо с Северного фронта от майора Цулукидзе, в котором сообщалось, что Роман Петрович Долина погиб в боях на реке Западная Лица.
…Василий Николаевич стоит в пустом коридоре вагона. В руке дрожит давно потухшая папироса. Альпинист с гитарой уже заснул. За окном вполнеба пылает багровый степной рассвет. По вагону прошел, потягиваясь, проводник.
— Не спится?
— Не спится, — сказал Василий Николаевич.
1960
На обочине дороги около запыленного молоковоза стоял высокий рыжий парень. Кроме него самого и его молоковоза, в степи были только небо и земля.
На лице у парня последняя степень отчаяния. Попутных машин нет. Сам он ничего не может сделать, молоко скиснет — хоть не возвращайся на базу…
В это время вдали показалось стремительное облако пыли.
— Эй, сто-ой! — Парень замахал обеими перемазанными руками. — Володька? С нашей базы. Ура!
— Ну чего тебе? — высунулся из кабины Володя Савин.
— Слушай, Коллектив, помоги, — почтительно сказал парень. — Бензонасос что-то барахлит.
— Доверяют малышам машины… — Володя спрыгнул с подножки и быстро зашагал к молоковозу. — Спешу я очень, понимаешь, спешу!
Володю Савина, шофера машины 45–66, знали на трассе почти все. Эти триста километров были длинной дорогой встреч и знакомств. В основном встреч. Знакомств было мало. И на всей трассе от совхоза Озерного до города Володю звали Коллектив. А виной всему был случай.
Три месяца назад, когда Володе присвоили звание «ударник коммунистического труда», начальник автобазы лично повесил на ветровое стекло его грузовика красный вымпел с золотыми буквами: «Коллектив коммунистического труда».
— Какой же я коллектив? — удивился тогда Володя.
— Ничего, ничего, — сказал начальник. — Главное тут не первое слово, а два последних.
Через два дня он получил другой вымпел, но уже по всей трассе только и слышно было: «Привет, Коллектив!», «Как дела, Коллектив?».
— Двадцать пять минут на тебя израсходовал! — сказал Володя. — Если сегодня опоздаю — всю жизнь от меня не откупишься!
— Спасибо, Коллектив! — крикнул вдогонку парень.
Володя прыгнул в кабину, и через секунду его грузовик уже мчался по ровной и длинной, как развернутый ремень, степной дороге. Сто двадцать километров разделяли его и понтонный мост, наведенный через большую реку, на другом берегу которой лежал беленький степной город.
К вечеру у понтонки скапливались суда: пассажирские и грузовые, баржи и танкеры, катера и буксиры терпеливо ждали одиннадцати часов, когда разводится мост.
В одиннадцать часов Володя был за два километра от понтона. Он знал, что Иван Максимович, начальник моста, иногда запаздывает минут на десять.
Тогда все суда гудят и трубят во все трубы. Но сегодня было тихо…
Машина почти прыгнула на мост. Понтон заволновался, заскрипел. Затормозил Володя у самой воды. Не успел. Поздно. В широкий темный рукав осторожно входил большой пассажирский лайнер. Володя вылез на крыло, закурил. С высокой палубы теплохода неслась песенка: «Марина, Марина, Марина…»