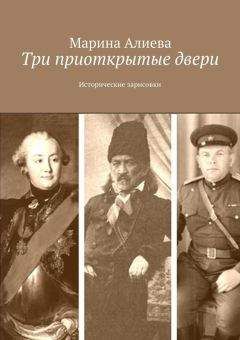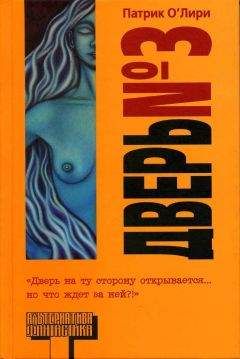* * *
А под вечер горячая пыль
Улеглась на студеной земле,
И зажженный на счастье фитиль
Слабо высветил что‑то во мгле.
Это было лицо не лицо,
Это были глаза не глаза.
Сизоватого дыма кольцо
Превратило штрихи в образа.
Тут бы сразу упасть и не встать
И при этом простить себе все,
Но вблизи что‑то стало стонать
Заглушаемому в унисон…
А потом — вдруг глухие шаги
И от вздоха потухший огонь.
За невидимым дымом — ни зги,
Лишь предчувствие страшных погонь.
Но глухой не услышит слепца,
Но слепой не оценит зеркал.
Это было начало конца,
А быть может, началом начал.
Заалела золотая заледь
В тот февральский неуютный день,
Когда юноша, на небо глядя,
Головой уткнулся в старый пень.
Загремел неудержимым эхом
Молодой заснеженный лесок,
И взорвался сыч зловещим смехом,
Недовольный, что прервался сон.
Закачались сосны молчаливо,
От ужасной новости ожив…
Вдруг по лесу кто‑то торопливо
Пробежал, тяжел и суетлив.
— Что случилось, брат! Ты бел, как мрамор.
— Я, кажись, парнишечку убил…
Слышу шорох… Ну, я быстро замер…
Думал зверь… И с двух стволов пустил.
— Смотри, если не веришь:
Вон лежит с кошелкою в руке.
— Ах ты черт! Но что теперь нам делать?
— Я спрошу. Тут дом невдалеке.
— Тебе что, свобода надоела!
Паренька хоть как уж не вернуть.
А тюрьма, ведь это же не дело…
Парня в прорубь надо запихнуть.
Снег закрыл колючим одеялом
На глубокой речке крепкий лед,
Лед закрыл начищенным забралом
Совесть обесчещенных вдруг вод.
А в спокойном доме на опушке
Начинается начало беспокойств,
И остывшие любимые ватрушки
Зачерствели, как березовая трость.
12.12.1977.
Здесь так хорошо, как в семье обеспеченной,
Здесь люди не лгут — правда, врут зеркала.
Но каждый, в них видя себя искалеченным,
Не то, что плачет, — смеется без зла.
Цепочкой идут и идут посетители.
Идут, чтоб глумиться до слез над собой…
И кто ж они, гости веселой обители?
Кто ты, например, человек молодой?
Не ты ль по тарелкам под хохот приятелей
Стрелял, попадая в одно «молоко»?
Дай Бог, чтоб не ты, ведь тот станет карателем —
Жестоко и метко разящим стрелком…
То нервный, то глупый смех, то очищающий —
Плебей и патриций в уродстве равны.
Здесь все ненормально, но жизнь — штука те еще,
Все рады, что здесь они просто смешны…
Слепой вдруг зашел с полосатою палкою —
Идет и хохочет, по полу стуча.
И это не выплеск, не выходка жалкая,
А то, что уносит, погаснув, свеча…
Здесь два измерения соприкасаются,
А может, и нет — между ними стекло,
И вовсе не виденьем тайны вскрываются
(Неважно, какие — добро или зло),
А чем‑то, что сводит с ума биохлюпиков,
Что, верно, увидел веселый слепой…
Но надо отвлечься: Цветы — это лютики,
А меч — это птица с настенной резьбой…
Зеркальная кривда, гротескная истина —
Юродивый ищет в уродстве себя.
Да, здесь он смешной, но зато не освистанный,
А там издеваются, даже любя.
Здесь так хорошо, как в стране обесчещенной…
4.05.1993.
С вокзала, с платформы, с вагонной подножки
Весной или летом, а может, зимой,
Когда над душой издеваются кошки,
Когда все мадонны на вид, как матрешки,
Увидишь мой город, сварливый и злой.
Увидишь, оценишь, поморщишься нервно,
Войдешь в его чрево песчинкой, звеном.
Проспект–пищевод неприглядной каверной
Тебя понесет на трамвае, наверно,
В истоптанный двор и истасканный дом.
О город, ты мастер не нравиться сразу,
Пугать серой кожей дорог и домов,
Изрытой судьбою, как будто проказой,
Уставшей от плоти, как страсть от экстаза,
Простой и всесущей, как роза ветров.
Мансарды на клетках, чудовищность в кубе,
Фабричный, автобусный, уличный гвалт,
Канкан на столе под серебряный бубен
В ночном кабаре, или попросту в клубе,
Где новые русские празднуют бал.
Все это не то, искажение сути —
За стенами бьется в припадке душа,
По улицам бродят обычные люди,
Раз в тысячу лет — бедуин на верблюде,
Зеваки глядят на него чуть дыша.
И это не то — сквозь цветастые шторы,
Замочные скважины, толщу дверей,
Защелки, засовы, заборы, заторы,
Сквозь непонимание, замкнутость, шоры
Наружу и внутрь рвется космос страстей
О город, ты монстр, и этим прекрасен
О друг, ты напрасно шельмуешь его —
Тебя проглотил он…
31.01.1996.
Хорошо живем, хорошо!
Вот побили чуть — и я рад, —
Значит есть за что, значит шел —-
Тех не трогают, что сидят.
Правда, нос мой малость распух,
Да зубов половины нет…
Но на то ведь и есть паук,
Чтобы мухе держать ответ.
Хорошо живем, хорошо!
Вот раздели вдруг — и я горд, —
Пробежал квартал нагишом
И тем самым побил рекорд.
Правда, сразу ушла жена,
И от смеха умер сосед,
Но на то ведь и сатана,
Чтобы было побольше бед.
Хорошо живем, хорошо!
Вот прогнали прочь — и… нет,
Не остался здесь, а ушел.
Вы довольны? Общий привет!
Правда, там, в чужой стороне,
Где обласкан был и согрет,
Я вдруг в свой портрет на стене
Разрядил со зла пистолет…
Между черным камешком и белым —
все узоры берега морского,
между гарью и арбузом спелым —
запахи сезона золотого.
Между прошлым и наставшим летом —
целый год из белых дней и черных,
как между закатом и рассветом
ночь полна и вещих снов, и вздорных…
Между первым днем и днем последним —
только жизнь промчится белой птицей —
промелькнет прочитанной страницей,
лучезарной, словно отпуск летний…
Серебристым пунктиром
мерцает в окне
долгожданный,
нежданный,
нечаянный
снег…
Отодвинуты шторы —
у грани стекла
позабыты на миг
и хула, и хвала!
и в домах, и в сердцах —
тишина:
вот и брезжит надежда,
и глуше — вина…
Что за снег, что за снег —
ни пятна, ни следа!
А с утра,
точно в марте,
заблещет вода…
О, Русь моя, одна шестая суши!
Постигну ль я путь нелегкий твой?
Уже ль твоих аборигенов души
с моей имеют вечное родство?
Уже ль их боль покорно отступает
у плещущего зеркала реки,
когда буксира дальние гудки
подбрасывают в небо птичью стаю?
Прошедших лет заветные надежды
им так же светят до тех пор, пока
потомки извлекут из сундука
для смерти припасенные одежды?
И так же ли повсюду проклинают
вражды безумной ржавые мечи,
во тьме которых ненависть слепая
живет, дымя пожарами в ночи?
А с пепелищ, как перекати–поле,
под безутешный плач вагонных сот
вновь держит горький путь за лучшей
долей
твой Богом не обласканный народ!..
Ответы соберу ли по крупице
за годы, что подарит мне судьба,
которая, как цапля за Кубань,
за грань тысячелетия стремится!?.