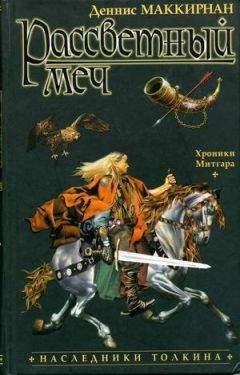Глеб Анфилов
Стихотворения
В отдалённом сарае нашла
Кем-то брошенный рваный халат.
Терпеливо к утру родила
Дорогих, непонятных щенят.
Стало радостно, сладко теперь
На лохмотьях за старой доской,
И была приотворена дверь
В молчаливый рассветный покой.
От востока в парче из светил
Уходили ночные цари.
Кто-то справа на небе чертил
Бледно-жёлтые знаки зари.
1913
Современник, 1915, № 1.
Тинос двенадцати лет умерла.
Тинос, что дочерью Прота была.
Тело закутали в белый покров.
Были венки из осенних цветов.
Эхо грустило в рассветных лесах.
Спали триэры[1] на тёмных волнах,
Кроткая Эос родилась вдали.
С плачем мы девочку Тинос несли.
В море сошла голубая звезда.
В горной стране пробудились стада.
Гелиос пылкий с путей высоты
Жёг на венках полевые цветы.
Не позднее 1913
Наше наследие, 1990, № 2.
Я уйду от вас без слов,
Чтоб никто не зарыдал.
Я оставлю этот кров,
Чтоб никто не увидал.
Двери молча распахнёт
Камергер мой вечный — ум.
Ослабеет давний гнёт.
Отойдёт старинный шум.
Вновь задвинется засов
И приложится печать.
Кто-то выйдет из часов
Одиноко помолчать.
Кто-то кроткий, как звезда,
Тронет вечные весы,
И на многие года
Остановятся часы.
Где друзья и где враги?
Что сегодня, что вчера?
Потеряются шаги
В чёрной мягкости ковра.
И никто не подойдёт
И не взглянет вглубь портьер,
Потому что страшен вход,
Осторожен камергер.
Июнь 1913
Наше наследие, 1990, № 2.
Блаженны мы — нищие — ибо мы не станем царями,
Блаженны печальные — ибо мы никем не утешены.
То, что мы ищем — лежит далеко за морями.
То, что мы знаем — тяжёлыми солнцами взвешено.
Мы соль океанов — плывущая в небо ладья.
Вчерашнего утра больные бесцельные пленники.
Мы часто заики и нас презирает семья.
Мы — неврастеники…
1913
Наше наследие, 1990, № 2.
Расплескали девки
Огневой кумач,
Парни рубят древки
Из сосновых мачт.
Улица-то длинная,
В сапогах кисель,
Тишина старинная,
В сердце карусель.
Тёмные Акимы
Поднимают флаг,
Ах, весны незримой
Светлый шаг.
Закликаем встречных
В наш крестовый ход —
Стариков предвечных,
Волостной народ.
Дьякон у околицы
Отошёл бочком,
Девки смехом колются,
А груди торчком.
Ходили до вечера
Туда и сюда.
Петь было нечего —
Вот беда.
1917, Рига
Наше наследие, 1990, № 2.
Замедля будничный бег,
Забудь земной календарь.
В близкий бессмертный брег
Смертным веслом ударь.
Вечности синие серьги
Прими благодарно, как женщина.
Руки, работой истёртые,
Брось в мировое горение.
В самой серенькой церкви
Есть для уставших от Бога
Где-то вблизи от порога
Тонкая трещина
В четвёртое
Измерение.
Сентябрь 1922
Наше наследие, 1990, № 2.
И когда, как прежде, непреклонно
Встанет в сердце новая волна…
Винавер
Перед вечером в старой гостинице
Колыхнется от ветра свеча.
Остановится сердце и кинется
Дорогую у двери встречать.
И войдёшь ты заветная, влажная —
Вся, как гроздь молодого вина.
На тебя сквозь замочные скважины
Заглядится моя тишина.
Тихо скажешь мне: «Мальчик неистовый,
Это я у порога стою.
Ты, как книгу, меня перелистывай,
Как любимую книгу свою.
Ты позвал меня в звонкие Китежи,
Ты писал: возвращайся, спеши.
Я пришла — всё, что вздумаешь, вытеши
Из моей белоствольной души.
О тебе тосковала под кружевом
Никому не открытая грудь.
Пожелай, мой высокий, мой суженый,
У моих родников отдохнуть».
И влюблённый и гордый раздвину я
На заре занавески окна —
Пусть приходят на таинство львиное
К нам в свидетели даль и луна.
И сплетённые в самое нежное,
Мы венчальные скажем слова,
А в окошке нас церковкой снежною
Перекрестит старушка Москва.
Март 1922
Наше наследие, 1990, № 2.
Мой нахмурившийся мастер,
Если ты устал от власти
Человеческих контор,
Если жилистым запястьем
Стиснув поднятый топор,
Ты творишь поэму гор,
Слушай шумы —
Дребезг бочек,
Дрожь машин,
Паденье свай,
Напряжённый шаг рабочих,
Уходящих в тёплый май.
Так гремят каменоломни,
Так шурша пронёсся вниз
С высоты головоломной
Оторвавшийся карниз.
В чаще ухают секиры.
Надорвался паровоз.
Распадаются над миром
Громовые зданья гроз.
Собирай ведущим слухом
Треск стен,
Звенья пил.
Барабан,
Лет круг,
Шхун крен,
Взрыв скал.
Страх стран,
Хруст гнёзд.
Грызь крыс,
Чок чаш,
Трель стрельб,
Плынь звёзд,
Тишь неб,
Всхлипы глин,
Отче наш.
Положи в рабочий ящик
Карк ворон и визг свиней.
Повнимательней и чаще
Слушай грохоты камней.
Посмотри, в котле асфальта
Закипает старина.
Многогранные базальты —
Это гор старинных залы,
Им ровесница — луна.
Заучи, как песнь Гомера,
То, о чём молчит пещера.
И подумай, что хранит
Замостивший жалкий дворик
Огневых времён историк —
Эрратический[2] гранит.
Плач ребёнка, треск селитры
Собери к себе в затвор.
Это всё твоя палитра,
И взыскательный скульптор —
Аскетически бесхитрый
Ты вернёшь нам говор гор.
1932, Никифорово
Наше наследие, 1990, № 2.
И в небе сказано слово «февраль»,
И кто-то дверное тронул кольцо,
И странный сосед, запрокинув лицо,
Поёт про светлый февраль.
О, тихая кротость вешних примет
И синькой окрашенный снег.
Задумчивый мальчик, трёхлетний поэт
Мне шепчет, печально лучась —
«Я в ручке зажал предвечерний свет,
Но он растаял сейчас…»
Мы так одиноки у шумных застав,
Где вырос, как вызов, над сводами дамб
Серый завод-металлург.
Нас видят с портфелями в людных местах,
Мы мёрзнем, как все, в молочных хвостах,
Но в жизни остался нам пушкинский ямб
И восковой Петербург.
Как знаем мы жгучую ненависть толп
К тем, кто настежь души не раскрыл.
Шагай же бездумный советский полк
По шелесту сломанных крыл.
Мы кем-то проиграны чёрту в лото,
И нас никому не жаль.
И плачем, и плачем, как в белый платок,
В наш серебряный светлый февраль.
24 февраля 1933
Наше наследие, 1990, № 2.
Бомба взорвалась в кипящем котле,
С рёвом взметнула солдатскую пищу.
Трое остались хрипеть на земле,
Десять ушли к неземному жилищу.
Вечером в поле туманно-нагом
Ухали выстрелы русских орудий,
Долго куски собирали кругом
И навалили на мёртвые груды.
В яме дорожной в версте от огня
Их забросали землёй прошлогодней,
Гасли осколки осеннего дня,
Фельдшер сбивался в молитве Господней.
Наше наследие, 1990, № 2.