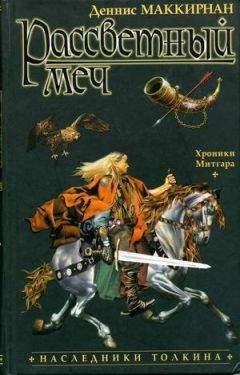1915
Лепта. М., 1995, № 26.
Четыре умерли, но пятый
Кострами глаз пылал с креста,
Поля благоухали мятой.
Четыре умерли, но пятый,
Истекший кровью и распятый
Взывал в окрестные места:
О, мой Сион! О, высота!
Когда мы возвращались — пятый
Чугунный труп свисал с креста.
1915, Венден
Лепта. М., 1995, № 26.
Когда в предвечную гавань
Войдёт усталый матрос,
Товарищи шьют ему саван
Из грубых холщёвых полос,
Потом к холодным подошвам,
Привязав рассчитанный груз,
Они говорят о прошлом
И о нём, разрешённом от уз.
И сразу замолкнут и вздрогнут,
Когда всплеснётся вода,
И труп, безжизненно согнут,
Уйдёт в волну навсегда,
К подводной неузнанной цели
Плывёт лишённый земли,
И тех что задумчиво пели,
Уже не видно вдали.
Со дна беззвучной стеною
Восходит страшный покой.
И близко чёрной струною
Повис над мешком мокой[6].
И вот уже саван разорван,
И ткань бесследно пуста,
Лишь кверху чёрная ворвань
Пошла от рыбьего рта.
И в мягком изверженном иле
Лежат у вечных границ
Глаза, что при жизни следили
Быстроту пролетающих птиц.
1916, Рига
Лепта. М., 1995, № 26.
И в третий полуденный час
Гвоздями пробитое тело
Повисло в нагорной пыли.
В полях гиацинты цвели
Задумчиво горлинка пела.
В шестой пламенеющий час
По старой Сахемской дороге
Влачились со скрипом возы,
И прелесть далёкой грозы
Овеяла наши пороги.
В девятый же пепельный час,
Косматые тучи, как шали,
Кружились над римской тюрьмой,
И женщины детям кричали,
Чтоб они возвращались домой.
1916, Рига
Лепта. М., 1995, № 26.
От револьвера, направленного в голову,
Не закроешься связанными руками,
Когда чёрные ужаснулись зрачки, —
Латыш делает своё дело.
Вот упал — умираешь.
Пальцы трогают невидимую клавиатуру.
Из виска на серый асфальт
Накапало с блюдечко крови.
Воробьи кричат —
Чирик, чирик, четверть четвёртого.
На заре, чугунно журча,
Пробежал безлюдный трамвай.
1919, Москва
Лепта. М., 1995, № 26.
Жду.
Тысячи часов,
Сотни дней,
Месяцы.
Выпуклым мёртвым взором
Гляну на Москву,
Ещё не знаю,
Что я каменею над ними
И что глаза у меня такие,
Каких не было раньше.
Довольно!
В переулке
Ржаною душой
Отдыхает извозчик:
«Время лошадь поить»…
Постным маслом икает
в апрель.
Вот тебе и апрель!
Медленно,
Снизу
Навожу упорный зрачок, —
И с козел, как в прорубь,
Ныряет извозчик,
Лошадёнка села
На задние ноги
И валится набок.
Довольно ждать!
Подходят
Быстро и медленно
Красноармейцы, торговка,
Папиросный мальчишка,
священник,
Перекликаются пульсами,
Не знают,
Что поперёк переулка
Протянут мой взгляд…
Другие бегут…
Вырастает тяжёлая
Горка
Мертвецов с изумлёнными
лицами…
Если нет Тебя —
И город не нужен.
Посмотрел на брендмаур —
Пробежка.
Дальше… хрустнула первая церковь.
И сразу
Колоколами и куполом
Звякает оземь.
Новый дом на Цветном
Роняет балконы.
Сухарева башня,
Стойко качнувшись,
Нагнулась,
Словно ищет чего-то на площади,
Монастыри и соборы,
Охая,
Кладут земные поклоны…
Рушится каменный карточный город.
Стало тихо…
И видны леса вдалеке.
Медленно, поднятым взглядом
Испепеляю леса.
Нет тебя — не должно быть природы,
Горизонты пошли чернозёмной
грохочущей дрожью.
Исчезая, вскипает земля.
Всходит вечер последний
С серебряной милостью звёзд,
С васильковым стоянием далей,
Но не видит вечер земли.
И только два взгляда моих,
Два тяжёлых невидящих взгляда
Настигают вслепую
В чёрном эфире
Мёртвые звёзды.
1922, Москва
Лепта. М., 1995, № 26.
Справедливые зори.
Беременность мартовских рек.
Горизонт.
Ветер в тополе.
Птицы над лесом.
Чёрный пепел ночей.
Кремли облаков.
Звёзды.
Осень, рвущая в мёртвых садах
пожелтевшие письма.
Что они знают о революции?
И только собаки
В запахе ям и в жестокосердечьи детей
Чуют новое,
Смутно боятся
И помахивают хвостами.
1922, Москва
Лепта. М., 1995, № 26.
В сердце — Адамовы пальцы террора.
Богу ли выйду навстречу вечною метой?
Зарумянюсь ли новой зарёй?
Всходит солнце, ежедневное, как газета.
У Сахалина вскипела чёрная буря.
«Отче наш, иже еси на небеси».
Деревенские псы,
Усевшись, как мягкие знаки,
Слушают вой из вселенной.
Поэтесса придумала рифму к слову «анапест».
Умер профессор, похожий на Бога отца.
В сорок лет навсегда остывает звёздное чувство.
Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы.
Слышишь?
В Кашине тренькает дождь
И свистят паровозы.
Смерть продаётся, как булки.
Далече,
Над Северным морем
Деревянные церкви гниют.
Господу всемогущему!
Делаю надпись на уставе РКП(б)
И плачу.
1922, Н. Новгород
Лепта. М., 1995, № 26.
Он выходит из всех библиотек,
Из громады Храма Спасителя,
Из домов для больных и увечных…
И плачет смешной идиотик
В старомодном военном кителе
О нём — отходящем в вечность.
Солнца пьяная вишня
Растеклась за Московской Заставою,
Где курился товарный поезд.
Тёмнолицый, давнишний.
Он вступает в тёплые травы,
Как в раскрытую вечером совесть.
Ветер в синей воздушной заводи
Полоскал облаков рубашки,
Снеговые сушил бурнусы.
И горит за Крестовскими башнями,
Как последняя кроткая заповедь,
Пурпур уходящего Иисуса.
Кончен день многогромный,
Пронеслась пожарная часть,
Вянут чайные розы.
Двух воришек поймали с поличным.
И ты, мой скромный,
Войдёшь ко мне, не стучась,
И в очах твоих твои грёзы,
И мысли твои безграничны.
1924, Москва
Лепта. М., 1995, № 26.
«Этот год для нас незабываем…»
Этот год для нас незабываем —
Год, когда по улицам Ростова
Плыли дни, как светлые улыбки,
Золотым пронизанные маем.
Мы неслись, как две влюблённых птицы,
По садам, цветам и многолюдьям.
Ты — моя притихшая невеста,
Я — хмельной, поющий и мгновенный.
И когда на пыльной Темерницкой
На окне спускалась занавеска,
Трепетала родинка под грудью
И дрожали острова вселенной.
Антология русского лиризма XX века в трёх томах. Издание второе, расширенное. Т. 1. М.: Студия, 2004.
Блаженны мы — нищие — ибо мы не станем царями,
Блаженны печальные — ибо мы никем не утешены.
То, что мы ищем — лежит далеко за морями.
То, что мы знаем — тяжелыми солнцами взвешено.
Мы соль океанов — плывущая в небо ладья.
Вчерашнего утра больные бесцельные пленники.
Мы часто заики и нас презирает семья.
Мы — неврастеники…
1913