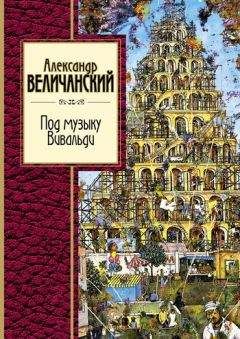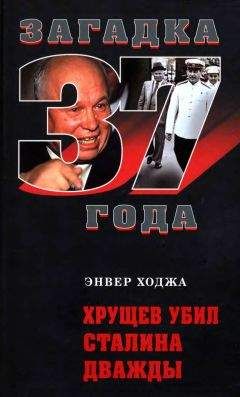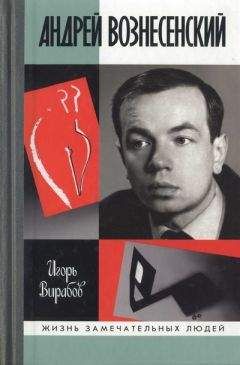Изгнание
He гневался Адам на Еву
и Иеговы гневу
не подражал. Он шел
уже не нагишом
с подругою, теперь понятной,
в мир безвозвратный,
где им судили впредь
труды и смерть,
сквозь оцепленье Серафимов —
в руках, вестимо,
двуострые мечи…
А рай в ночи
благоухал пустопорожне,
и звери Божьи
в нем мыкались одни:
не ведали они,
что ждет и их изгнанье,
за пропитанье
кровавая борьба —
силки, стрельба.
За центральных зданий черствым рустом —
в переулке, в доме из доходных,
где все вымороченней жилплощадь
коммунальная, в квартире, слишком некой,
в комнате, как водка, одинокой
жил старик, но без своей старухи.
Было деду семьдесят. Возможно,
шло к восьмидесяти – горькие запои
возраст затянули как бы ряской —
старый пруд. Он был пенсионером:
пил по пенсиям. Но лишь по смерти бабки:
умерла, как ни ходил за нею.
В голой комнате его теперь остался
лишь портрет ее великолепный:
с фотографии глядела гордо
женщина красы не то что строгой —
замкнутой скорей, скорее – скрытной
как порывы юности. Прекрасным
и таинственным лицо ее казалось
на портрете молодом, хоть старой
фотография была и пожелтевшей.
Оттого ль что не хватало водки,
иль от одиночества – не знаю —
но надумал дедушка жениться
на одной старухе из продмага
(разумеется, из винного отдела).
Говорил старик своей старухе:
«Мне не надо твоего прибытка.
Ты ведь, знать, на пенсию выходишь.
Детки твои тоже разбежались.
Кончится прибыток, а вдвоем мы
пенсиями сложимся – протянем».
Долго думала убогая старуха
над причудой этого пьянчуги:
тридцать лет она жила без мужа,
выросли и разлетелись детки,
дед сказал, что комната большая,
а у ней не комната – каморка.
Чуть не сладилось у деда это дело,
чуть не вышла за него старуха,
но надумал дедушка невесте
показать вперед свою жилплощадь.
Оглядела койку, подоконник,
стол, обоев рвань, в окошке – дворик
и портрет старинный заприметив,
долго на него глядела бабка…
наглядевшись, деду отказала
наотрез: уж больно пьешь нетрезво.
«И рече рабу, кто есть человек оный
иже идет по поле во сретенье нам»
(Быт., 24, 65)
И в поле вышел Исаак
навстречу сумеркам. Но мрак
еще лишь зарождаться начал.
Кричал ишак, тот мрак вдохнув.
За горизонта вечный круг
исчезло солнце. Лай собачий
сливался с блеяньем овец.
И пахли травы. И чебрец
средь них особо. Пахло волей.
Шел Исаак в раздумий мгле
по остывающей земле
навстречу сумрачному полю.
За праотеческой спиной
шатры исчезли. И родной
вкус дыма пустошью зашелся
в пространстве чуждом и большом,
где степь лежала нагишом,
наложнице подобно. Шел всё
и шел пустынный Исаак.
Сгущался вековечный мрак,
но разглядела человека
средь надвигавшейся земли,
среди времен грядущей тьмы
с верблюда дальнего Ревекка.
«Что вы! Пенсии хватает.
Вы не смейтесь. Для кота я
сторожу здесь. Он в еде
привередлив: каждый день
нужно что-нибудь иное —
ну, паштет, гуляш… порою —
шпроты – отчего, Бог весть —
так-то рыбы он не ест.
Привередлив. Только мясо.
Но сырое редко – в масле
чуть обжарить… Ну, а вы
отчего здесь?… Вы правы,
только так и можно. Я-то
хоть старуха и с Физ-Мата,
до сих пор пишу сама.
От Ахматовой с ума
я сходила… Принесу вам
что-нибудь из старых… Судьбы
там, которых не найти.
Хоть стихи и не ахти.
Вы поймете… Кот мой любит
яйца в майонезе! Люди
в гастрономии слабей,
чем мой кот… Там – про людей —
про моих друзей, которых
я пережила… Не в норах —
нет, не прятались они…
про погибших ДО войны.
Вы поймете это мигом.
Вон у вас какая книга —
мне таких уж не прочесть:
нервничаю… Кот мой ест,
представляете, маслины!
Завтра пенсия, и с ним мы
погуляем… Он меня
любит. Он мне – как родня.
Не кастрированный даже,
но все время дома! Наши
бабки говорят, что де
ненормальный он… Людей
раздражает, если кто-то
счастлив… Вот что: антрекотов
я куплю ему! Он рад
будет… Прямо на Арбат
и поеду: там такие
свежие в кулинарию
по утрам завозят… Вы
мясо любите?» – «Увы».
Лица, которыми светятся храмы —
будь то у бабки иль сгорбленной дамы
иль у молодки, поди, заводской —
все эти лики походят на Твой,
«ТЯ БО ЕДИНУ НАДЕЖДУ ИМАМЫ»
все мы, но их Ты признала средь нас
с темных икон своих сквозь фимиамы
ладана – светлый их иконостас.
И ничего после любви
не изменилось: дом ли, сквер ли,
мелодий, улочек углы,
в кафе излюбленном столы
и в парке – древние стволы…
Вот также будет после смерти.
Я говорю на вашем языке —
молчанье здесь иными словесами
исполнено… Работала в ларьке.
Там было мне семнадцать. Рядом с нами
за проволокой колючей встала часть
военная. Отец мой там слесарил
в домах жилых. И помню, как сейчас.
В субботний вечер. Летом. На закате.
Привел солдата. Оба – под хмельком.
(Папаша отмечался при зарплате).
Я им таскала закусь. С пареньком —
ни слова я, покуда мне папаша
лафетик не поднес, считай, силком.
С того и начались свиданки наши.
С того и началась любовь меж нас.
На танцы приглашал меня в Железку[6],
и раз я с ним воскресным днем прошлась
за речкою. Ну, и сейчас полез он.
Но робко эдак. Робостью и взял.
В мундире был, и мне, девчонке, лестно.
И лето светлое. И всяк цветочек ал.
Стал прибегать ночами в самоволки.
Таились мы. Отец тверезый строг.
Солдатик мой томил меня. Про Волгу
всё заливал. Но вот проходит срок —
и нечего! Недели две терпела.
Со страху-то чуть не валилась с ног.
Потом сказала все ж: «Такое дело».
Боялась осерчает. Нет, он сам
весь растревожился. Но говорит, сердешный:
«Поженимся». Меня по волосам
всё гладил: не страшись, мол, будь в надежде.
Утешилась я малость. Ждать взялась.
И всё у нас пошло милей, чем прежде.
И осень красная была – ну, прямо страсть!
Но раз он говорит: «Назавтра к ночи
приди сама. Там в проволоке лаз.
В наряде я. Но дерну на часочек.
А за складами не приметят нас».
И я пошла сама, в охотку, смело:
уж заполночь потайно поднялась —
отец не слышал. Ну и – подоспела.
Я говорю вам вашим языком.
В ту ночь как раз стоял он в карауле.
Сперва меня окликнул он тишком,
чтоб подошла поближе я, и пуля
пришлась в живот мне, так что сразу двух
убил он зайцев… Как у вас? – уснули
навек с младенцем мы? Да: испустили дух.
Теперь и сам – при нас. Его уловка
раскрылась сразу: на посту убил,
де, некую. Расстрелян был милок мой
там на земле, где был когда-то мил
он мне средь ваших трав, что пахнут сладко,
коль срезать их средь стоптанных могил,
среди людей… Осталась лишь загадка
от нас. Вам разгадать ее невмочь.
Молчанью здешнему не внемлете вы глухо.
Всё ясно вам: в сентябрьскую ночь
один подлец, трусливый или глупый,
чтоб скрыть, что он надысь с девчонки слез,
промашку сделав, сделал ее трупом.
Но здесь молчанье из других словес.
Прежде, чем бросить меня с этой женщиной страшной,
как-то сказал он, но, может быть, в шутку – не важно:
«Вот отвоюем проклятую эту войну,
в Гагры махнем погулять хоть недельку одну».
Если искала его – лишь в толпе и в рыданьях —
не узнавала, небось, не справлялась заранье —
я что ни день всю Москву обходила пешком.
Много военных в толпе – обознаться легко.
И обознавшись, стесняясь рыдать при народе,
я заходила к сестре – что-то комнатки вроде
дали ей в этой центральной конторе ее…
Как презирала она тогда горе мое.
После войны веселились, угрюмо, угарно.
Я ж нанялась на работу в те самые Гагры,
хоть и москвичка, но что мне теперь города —
я поселилась в надежде своей навсегда.
Не по душе мне была эта знойная сырость,
мертвая зелень растений продажно красивых,
душных бессониц соленый, безвыходный шум:
с кем он здесь был, что пришли ему Гагры на ум?
Ну и приметил один мои душные ночки.
Нынче за сорок мне. Вот уж и сестрина дочка —
одна отрада моя – стала ростом с меня —
мне присылает ее, как подарок, родня.
Но временами как будто бы что-то находит.
Платье ищу выходное и не по погоде,
разворошив в лихорадке безжизненный шкаф,
платье тогдашнее в спешке едва не порвав,
я надеваю и с пляжа племянницу кличу
(ты не видала таких обаятельных личик)
хоть и в обтяжку мне платье – на этакий стан —
чуть не бегом мы бросаемся с ней в ресторан.
Но не в отраду вино и тяжелая пища
(мне это вредно), но ем я и пью, и обычно
жадно пытаюсь вдыхать этот горький табак,
но задыхаюсь и, знаешь ли, кашляю так.
Вот моя девочка – та изумительно курит.
Пьяный курортник к ее загорелой фигуре
лепится взглядом, а ей невдомек и не в честь —
ей бы, счастливой, пока только яблоки есть.
Гагры видны нам внизу в полыханьи закатном —
там от войны не осталось и камня на камне…
Быстро смеркается, и созревают огни.
Тьма. Только Гагры видны нам. Лишь Гагры одни.