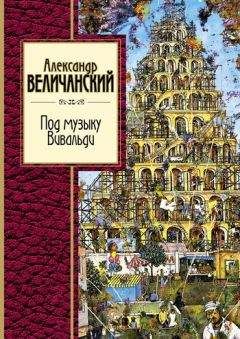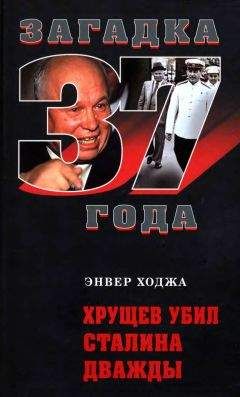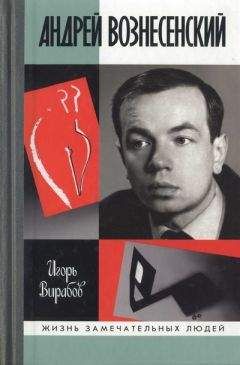Посвящается всем им
Тюрьмы, лагерей и ссылки
был баснословен срок.
Всех потеряла – сына,
мужа, отца. Жесток
век наш. Не хватит влаги
горькой на всех людей.
Но ссылка, тюрьма и лагерь
стали опорой ей.
Гордость судьбою, либо
силы людской предел —
но казался счастливым
страшный ее удел.
Не дал ей Бог недуга —
женственна и мила —
как старую подругу,
смерть она приняла
в комнате той, где тени
смотрят с портретов на
встречу их. Но на деле —
смерть, как всегда, одна.
Но всех прекрасней среди нимф
была, естественно, гречанка.
Должно быть, ездила в Коринф
в автомобиле – не песчаный,
а галечный в Коринфе пляж,
зато – божественный пейзаж,
очерченный полетом чайки,
воздушной линией вершин
приморских гор – сосняк корявый
в них коренится… Из Афин
она была, конечно (я вам
о нимфе говорю) – увы
в морозном зареве Москвы
увидел я сей величавый,
прекрасный профиль, что века
чертили набожно и тонко
не с тем, чтоб привлекать слегка
иль завораживать, а только
чтобы из времени извлечь
красу его – казалось с плеч
не снят кувшин с водою звонкой —
той древней чистою водой,
что из источника трагедий
хор женщин нес… Немолодой
она была уже. Но гений
в святой гармонии своей
едва ли был ее стройней.
А красоту ее движений
лишь с соразмерностью стиха
сравнить уместно было б. Очи —
два сокровенных тайника —
и очерк их был не восточен,
не западен – ведь у времен
нет географии – и он
был оттого настолько точен.
Ночная их голубизна
была слияньем вод и камня…
Но вся она была ясна,
как тайна… Хоть извне пикантна
была, пожалуй, даже не
затронутая ни извне,
ни изнутри годами… К нам не
по доброй воле занесло
ее – нет, дочь с супругом – ола! —
не победив в Элладе зло,
спасались здесь от произвола.
Но нимфе участь их чужда,
как миру красоты – вражда,
хоть сам-то мир, конечно, зол он.
Верней трагичен. И пример
тому судьбы ее возмездье.
От неких новых строгих мер
сбежала дочь в Париж с семейством,
в приличной богадельне мать
оставив старость доживать…
Краса ж и старость несовместны:
она курила много и
снотворным, верно, запивала
воспоминания свои —
всё дымно здесь, я знаю мало —
и всё же в номере, в дыму
погибла нимфа – по всему,
видать, горело одеяло.
Красу не оставляют впрок.
Дочь отуречена – нимало
не схожа с матерью – и срок
отбыв, жива. А к смерти даром
приговоренный заглаза
зять Достоевского азам
в Сорбонне учит коммунаров.
Скрип портупей. Сапожный скрип державы.
Скрип кобуры, воспетый Окуджавой.
Скрип ночью отворяемых дверей.
И снега скрип – он был всего страшней:
он схож был с оловянным скрипом мисок.
И перьев скрип: скрип докладных записок.
И патефонный скрип тупой иглы.
Скрип половиц – общаются полы.
Чу! – скрип фамильной мебели – тот чинный
старинный СКЫП – у стервы-дворничихи
в полуподвале с видом на кота
дворового. Вот так летят года.
Колесный скрип механизации сельских.
Скрип пилочек по части заусенцев.
Скрип времени, который ШУМОМ скрыт:
скрип портупей, сапог и снега скрип.
Мне чудится, что так звучали годы,
когда и к ней – невидной, робкой, гордой
явился человек – прекрасен он
и нежен был – он был скорее сон,
но оставался явью, далью, плотью —
не только телом, даже каждым платьем
неловким знала: любит! да! ее!
ее одну! – и даже не свое
с ней счастье, а ЕЕ – ее такую,
какой она была. Они, ликуя,
ходили в парк, смотрели «Трех сестер»,
ликуя ели, выметали сор
из комнатки ее, в лото играли,
ликуя, бились среди тел и брани
в трамвае по утрам… Но вот беда:
он первым выходил всегда. Куда
потом он шел – ей было неизвестно.
Но мало ли работ – и ей – невесте
не к месту спрашивать про службу, про оклад,
того ль ей надо – но когда подряд
он трое суток к ней не возвращался,
она, измучившись, оторопев от счастья,
что вот он снова жив, что снова с ней,
она его спросила. И ясней,
правдивее не мог бы отвечать он —
он, переполненный ее – ее печалью —
(он ревности не ждал) – но вот за страх
ее ответил головою так,
как отвечают головой на плахах.
Шли ходики. Она не стала плакать:
не слезы застят всё, что впереди.
Она ему сказала: «Уходи».
Когда он выходил, она мгновенно
увидела и шаг его военный
и эту стать! Он был переодет! —
в того, кого теперь на свете нет —
в любимого, да просто – в человека.
Он был переодет. Он был калека,
скрывающий увечья – только чьи?
…Соседки в кухне ставили чаи.
Шли ходики. Все началось сначала.
Маруська разведенная кричала:
ее бы воля, всех бы под арест!
И надо было торопиться в трест.
Пришел он вскоре. И застал за стиркой.
Соседи тешились любимою пластинкой.
Был в форме, но без кубиков и шпал
(ей это невдомек). Но чем он стал
за это время – только гимнастерка —
и всё. Лицо как будто стерто.
И в голосе чуть не предсмертный хрип.
И скрип сапог. И портупеи скрип.
«Вот. Я вернулся. Я ушел из кадров.
К тебе». Потом молчание. «Но как ты
там был все эти годы? Был ведь? Да?
И наш с тобою год…» – «Ты никогда
об этом не узнаешь». Так же круто
он вышел, так же прямо, и с минуту
был в коридоре слышен скрип сапог.
И кто б тогда подумать только мог,
что нету этой поступи возврата.
Его забрали в тот же день. Она-то,
так живо горевала о живом
еще так много страшных лет… И вот
узнала, что давно не дышит тело
любимое – и горе помертвело,
живая скорбь запнулась, обмерла…
Она увидела кровавые тела
им убиенных, и средь них – он – милый.
«Ведь это я сама его убила.
Мне нужно было грех его вобрать
в себя – терпеть, молиться – Божья Мать
услышала б меня, во что б ни стало.
Наверное, любовь его искала
во мне спасенья этого, – угла
последнего. Убила. Прогнала.
Затем, что слишком дорог был. Как в милом
могла терпеть я палача… Могилы
его не сыщешь…». Да, теперь он был
одной волной бушующих могил —
она об этом знала… Как и прежде
могла судить его лишь по одежде? —
а нежность, ясность… «Он ради меня —
из смерти в смерть. А мне его вина
застлала, видно, ненавистью очи…»
В ней ожили те дни их, те их ночи,
в которые душой боялась впасть.
Теперь она судила свою страсть —
свою всегдашнюю испуганность в объятьях
и неумелость. «А могла бы дать я
ему, убитому, поболе – что за стыд…
Но он по доброте своей простит».
Сперва, про смерть не ведая, стыдилась
во сне его объятий. Утром мылась
военною водою ледяной
до отвращенья. Но теперь одной
ей по ночам невыносимо было.
И перед сном она его будила,
но он не просыпался. Снился ей
скрипучий снег окрестных черных дней.
Но иногда сбывались упованья;
он снился ей таким, как до признанья
во зле – безгрешным, ясным и родным:
они стояли в сквере вместе с ним.
Ее пугало то, что в тресте, в главке
средь лиц полуистертых или гладких,
как бланк – не находила ни черты
его лица. Уж не забыла ль ты?
Нет, это только память стала глубже,
вернее. Ни любовника, ни мужа
ее душа не приняла. Она
старела гордо, как его жена.
Любовь ушла в подмогу пьяным братьям,
их детям, внукам: даже рисовать им
училась специально – танки, бой
с зенитками, солдатами, пальбой.
Любовь ушла в чужих детишек тощих —
подарки, елки – но еще и в то, что
в ней ненависти не осталось той —
слепой, аляповатой, молодой.
Не оттого ль, что просто постарела?
Или боялась? Вряд ли в этом дело —
забыла ли она хоть на одну
секунду свою смертную вину?
о, нет, она ЖИЛА своей виною
придуманной пред мертвым, и порою
казалось ей, что вины их слились,
как люди, жизнь рождающие из
слияний этих. Как они когда-то
сливались… В жизни столько виноватых! —
НО ВСЕ НАКАЗАНЫ. Всевышнему хвала,
за то, что, опочив, не дожила
до наших светлых дней, когда бы стали
ей ведомы кромешные детали
его «работы». Умерла допреж
всех братьев старших: не было надежд.
Или была всего одна надежда,
что где-то там нам отверзают вежды —
быть может, там откроется ей, как
он сразу был и ангел, и варнак…