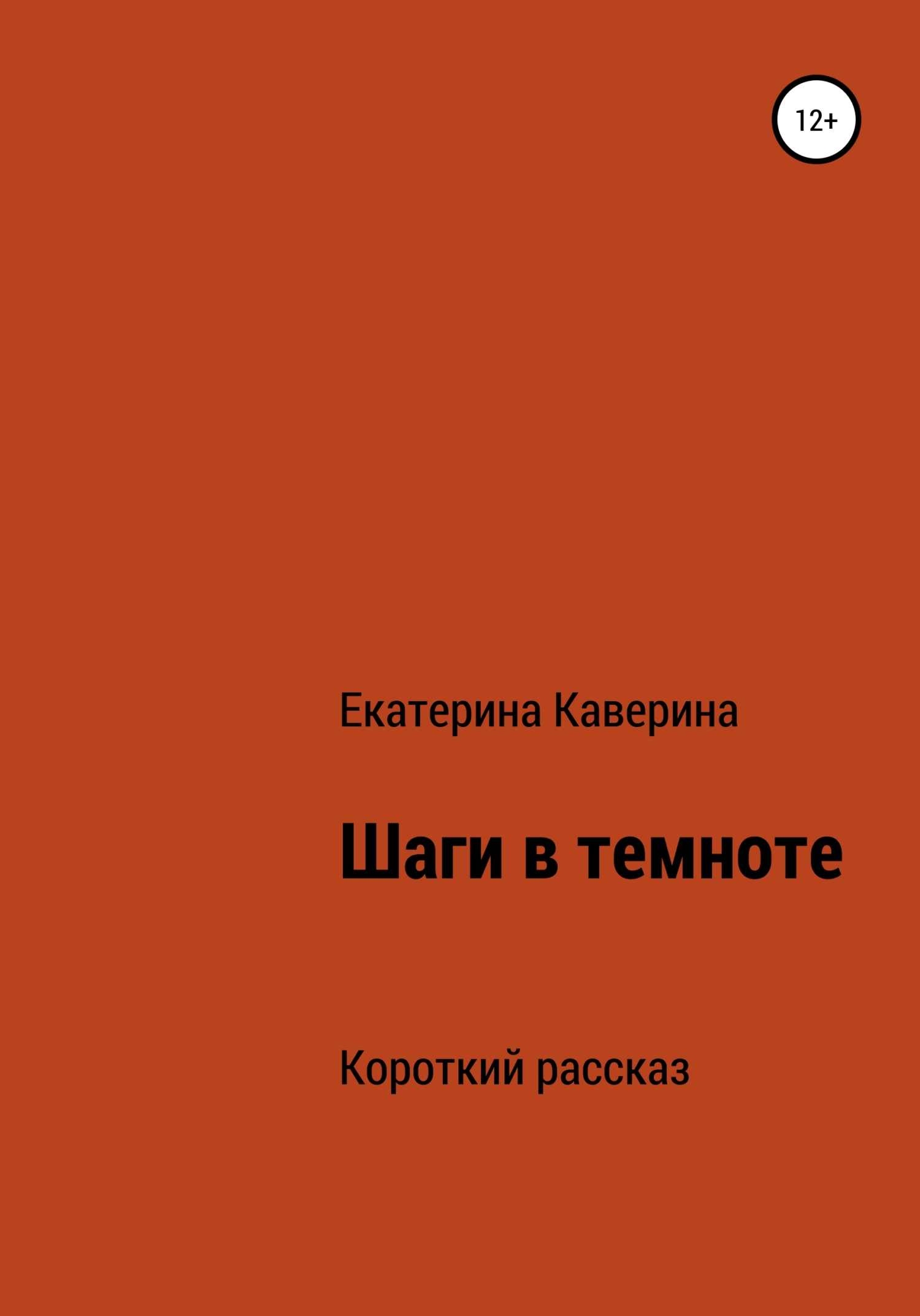не в счёт.
В святки, под Крещенье
не ленись, гадай,
прояви терпенье –
загляни за край.
Улетают в небеса
с грохотом огни.
Мне же — грусти полоса
праздничные дни.
Будь рядом
Путь одолевает
золотой жучок.
Цель похода знает,
рвется горячо.
Для него былинка
что бревно в лесу.
Засверкала спинка
сбоку на весу.
Здесь свои заботы
и своя беда.
Здесь другие ноты
слышатся всегда.
Днем, в ночи бессонной
оглянись окрест -
там и сям стозвонный
зазвучал оркестр:
тихий шорох, шепот
иль жужжанье крыл,
затаенный топот
смял лесной настил.
А ведь нас забросил
в мир, где жизнь цветет,
скопом всех без спросу
времени полет.
Современник милый,
не робей, кружись,
в пустоте унылой
поддержи нам жизнь.
Убегают уставшие люди…
Убегают уставшие люди
в сень прохладную ближних лесов.
Здесь никто их за грех не осудит,
хоть и сотни звенят голосов.
Растворятся сердечные муки,
лишь завидят, как солнца лучи
простирают воздушные руки,
согревая, что стыло в ночи.
Что ни шаг, красотою врачует
то полянка с черничной росой,
то узришь сыроежку — крутую,
вся она как труба для басов.
Ночь придет, напоит тишиною,
лаской звезд и дыханьем трав.
Мир спасет… мир спасен красотою –
наш писатель воистину прав!
Человек хлопотлив, своенравен.
В подражании смелом творцу
и в дерзании сладостном равен
себе кажется Богу-отцу.
И глядится в прозрачные воды
птицей белой взлетающий храм.
Городов, тихих сел хороводы
красотой не уступят лесам.
Стону ветра, пчелиному гуду,
птичьим посвистам, звону ручья
откликается музыки чудо,
отзывается песня моя.
Тот же свет красоты согревает
всех уставших, печалью больных.
Лишь бы воля глухая, слепая
не расстроила милый мотив.
Дороги к храму
Айя-София и Домский собор,
тучей — Нотр-Дам де Пари –
храмы великие. Тихий восторг:
то ведь умельцев дары.
Храмы живут, уносясь в небеса.
Свечи мигают во мгле,
рядом чуть слышных молитв голоса.
Не помолиться ли мне?
Мир догадался лелеять, беречь
даже пустой Парфенон.
В нем не услышишь жрецов строгих речь.
Чем же так властвует он?
Видно, дорога до храма нужна
даже в ученый наш век.
К горним высотам крутая волна
здесь набирает разбег.
В милой Руси трав душистых простор
или заснеженный рай –
все оживляет церквушек дозор,
свято хранят родный край.
А города? Узнаешь их в лицо
по колокольням церквей.
Клад — не одно Золотое Кольцо,
северных сколько затей!
В храме стоим, прислонившись к стене,
ждем обновленья души.
В клеточке каждой покой, как во сне.
Благодари, не спеши…
Сотни веков, с эры давней, седой,
пагода, церковь, мечеть
были — и будут! — чуть видной звездой
в сумраке мира гореть.
В Третьяковской галерее
В тишине чуть слышен шорох ног.
В залах броуновское движенье.
Связывает всех волненья ток:
пред тобой великие творенья.
Кто-то близко подошел — назад:
Струйская… её поэт увидел*.
Сколько лиц со стен на нас глядят!
На Руси осталась их обитель…
В новом зале царствует Крамской
и его Христос в пустыне дикой,
в бедном одеянии, босой,
с опечаленным, уставшим ликом.
Пальцы заплелись в тугую связь.
Знак решимости, суровой воли?
Над душой лишь собственная власть
встать на путь страдания и боли.
Не могу уйти. Я с ним одно,
та же мука в сердце проникает.
И хотя подняться не дано
до него, нас что-то возвышает.
Иисус и просто человек
на распутье долга и желаний.
Ставит те загадки жизни бег
каждому в годину испытаний…
Нет величия — смиренье и покой.
Есть величие! Но высоты другой.
* Ты помнишь, как из тьмы былого,
Едва закутавшись в атлас,
С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас.
/Н. Заболоцкий/
На что рассердился бог Аид /Сказочка/
«И смеется вся природа,
Умирая каждый миг»
/Н. Заболоцкий/
Долетели эти слухи
до подземного царя.
— Все смеются? Даже мухи?
Смерть старается зазря
напугать беспечных пташек,
однодневок-мотыльков?
Нет, не верю, правду скажет
мой садовник.* Он таков:
изучил ее, природу.
Пусть летает ветерком,
становясь себе в угоду
то синицей, то жуком.
Полетел садовник смелый,
он командировке рад.
Глядь, весна взялась за дело:
листьев, трав, цветов парад.
«Что ж, начну с листочка ивы.
Ишь ты, машет мне флажком».
— Осенью слетишь тоскливо
и умрешь под сапогом.
— Подними-ка мой листочек,–
ива ветерку шуршит.
— Что увидел? — Почку. — Почку!
Новый лист в нее зашит!
«Жаль, я что-то проглядел,
оказался не у дел».
На полянке золотистой
раскрылились глухари.
Ох, токуют голосисто!
К самке звуков пузыри
долетают и ласкают
сердце трепетное всласть.
Песни те охотник знает
Ведь пропасть вам всем, пропасть!
Но глухарь и есть глухарь.
Хоть из ста стволов ударь,
выдохнет свои рулады.
Сердцу надо! Сердце радо!
«Ишь ты, «надо» глухарю.
Жаль, напрасно говорю».
Некогда под солнцем греться.
Подползает к муравьям.
«Хоть щекотно их соседство,
я вопрос им свой задам».
— Вашу смерть я видел рядом:
жабу, черного крота…
— Не мешай нам, срочно надо
дом достроить. Маета!
«Ну, чудной народ!»
Тут слышит:
кошка по стволу скребет.
Злые зенки выше, выше,
к птичьей кладке поворот.
Самка сжалась, не до смеха.
«Примет пташка злую смерть!
Царь узнает…»
Стоп! Потеха!
Кошке с дерева лететь
срок настал. Самец стрелою
в лоб, а самочка крылом
размахалась над бедою –
пронесло! Сидят рядком.
— Каково вам жить на свете –
смерти ждать.
— Нет, ждем птенцов,
крепенькие будут дети.
— И таких же храбрецов?
«Знают правило ребята:
защищаться — это свято!»
Потолкался наш садовник
на болоте и в лесу.
Отвечали все дословно:
«брысь» на смертную косу!
Отдыхает, удрученный
темной ночью у реки.
Вдруг услышал отдаленно
подвыванье, вслед — прыжки.
Появился пес нестарый,
хвост, однако, как метла.
— Что с тобой? Какая кара
экстерьер твой унесла?
— Все мне кажется, за мною
смерть украдкою идет.
Я прислушиваюсь, вою.
Нет давно других забот.
«Так, нашелся бедолага,
мысли, страхи — о себе.
В точку съёжилась отвага
в неказистой сей судьбе.
Покажу его в Аиде.»
Что-то понял наш гонец:
«Тварь живую не обидел
бог природы, бог-отец.
Научил себя забыть,
жить взахлеб.
Любить?
Любить!»