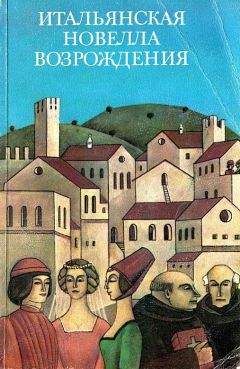В обширном творческом наследии классика мировой литературы Джованни Боккаччо (1313–1375) поэзия всегда находилась в тени «Декамерона», бессмертного шедевра его прозы. Между тем на протяжении всей жизни он писал любовную лирику, посвященную его возлюбленной Марии (которую он называл Фьямметтой – «огоньком»), поэмы, исследования наследия Данте. Стихотворения, лучшие из которых по мастерству вполне сопоставимы с творениями Франческо Петрарки, стали своего рода фиксацией его чувств и размышлений: от воодушевления пылкой юности до философских и нередко горьких раздумий зрелых лет.
Впервые на русском языке издается полный свод лирики поэта, включая стихи из «Декамерона», в новых переводах Александра Триандафилиди и Владимира Ослона. Также в издание включена поэма «Охота Дианы». Книга проиллюстрирована гравюрами французского художника XIX века Тони Жоанно (1803–1852).
А я горю, несчастный, сам не свой,
В таком огне, что пламенник Вулкана
Покажется пред ним лишь искрой малой.
И день и ночь у своего тирана
Выпрашиваю влаги дождевой —
Ни капли до сих пор не перепало.
До наших дней предание дошло
О том, как на скале в стране Борея
Жестоким клювом сердце Прометея
Терзал орел и вновь оно росло.
Мне кажется, воскресло это зло,
Я в качестве подобного трофея
Амору стал, он мучит, не жалея,
И много слез в чернила натекло.
Я плачу, ибо сердце рвут на части;
Когда же он умерит муки вдруг,
От раны стану слабым, изможденным,
Но, Боже, переменятся напасти,
Двояк непреходящий мой недуг:
Разбитым становлюсь, но возрожденным.
Когда покинет солнце небосвод
И свет его похищен будет тенью,
Животные спешат к отдохновенью,
И до поры, когда из гангских вод
Аврора златокудрая взойдет,
Забывшись где-то под укромной сенью
И чуждые любовному томленью,
Они не знают горя и забот.
А я, когда нисходит мгла ночная,
Лью слезные потоки в два ручья,
Что полноводней двух лесных криниц,
Ни отдыха себе, ни сна не зная,
Так злым Амором измытарен я,
Что до рассвета не сомкну зениц.
Одни пеняют на немилость рока:
Страстям их, дескать, не благоволит;
А кто на Бога ропщет, кто винит
Амора, кто-то даму: мол, жестока,
Хотя сама чиста и без порока
И мерзок ей любовный аппетит;
А кто – планеты на кругах орбит,
Но не себя, и оттого морока.
А я, страдалец, лишь глаза виню
Во всех несчастьях, ведь они – дорога,
Которой страсть огнем в меня вошла.
Будь сомкнуты, любовному огню
Я не поддался б и, с поддержкой Бога,
Не звал бы смерть как средство против зла.
Когда предательски златые пряди
Вождь из Египта Цезарю прислал,
Душою римлянин возликовал,
Но недовольство выражал во взгляде.
Когда же брата голову на блюде
Тебе преподнесли, о Ганнибал,
Смеялся ты, с бойцами пировал,
А сам в душевном мучился разладе.
Гримасами веселья иль скорбей
Не то являет человек подчас,
Что скрыто в сердце, – противоположность.
Вот так и я, когда пою для вас,
Не покажу улыбки, хоть убей,
Чтоб видели всю боль и безнадежность.
Когда б зефир, повеяв шаловливо,
Не растоплял на сердце донны лед,
Надежды бы не стало этот гнет
Мне облегчить в юдоли несчастливой.
Но травы и цветы воспрянут живо,
Когда ненастье зимнее уйдет,
Так и она весною расцветет
И, сжалившись, не будет горделивой.
Надеждою, что теплится в душе,
Я жив доселе, ею ободренный,
Хотя и знаю: смерть не за горами.
И, стоя на последнем рубеже,
Молю судьбу, чтоб стала благосклонной
И сделала меня угодным даме.
Надежда, что сквозь муки я пронес,
Не раз меня из мрака выводила,
Но тягостной судьбы не победила
И вздохи навевает вместо грез.
Любовные порывы столько слез
Доставили, что глухо забродила
Досада в сердце, взор мне помутила
. . . . . . . .
О, если правда, что узрю нежданно
Увядшей, сморщенной и бледной ту,
Чьего презренья так привык бояться, —
Сколь счастлив буду я и сколь желанной
Жизнь ускользающую вновь сочту,
Чтоб всласть над переменой посмеяться!
Коль доживу, чтоб видеть, как легла
Нить серебра на локоны из злата,
В которые влюблен был без возврата,
И как бегут морщинки вдоль чела,
И как глаза, чье пламя жгло дотла,
Гноятся, и как стала грудь поката
И не поет, а лишь хрипит, – тогда-то
Прервется эта злая кабала:
Услышишь вместо вздоха, всхлипа, стона
Мой едкий смех, и, наконец-то смел,
Скажу: «Амор к тебе утратил милость;
Твой голос больше не чарует, донна;
Твой прежний лик увял и побледнел;
Что ж, плачь о том, что на любовь скупилась».
«О нечестивый, раб мой злополучный,
Что страждешь так? И плача, и стеня,
Амора и меня саму кляня,
Из-за чего ты так брюзжишь, докучный?
И что ты всё твердишь про выстрел лучный
И о стреле? Какого это дня
Просила я, чтоб ты любил меня,
Чтоб мы сердцами стали неразлучны?
Ты сам просил, порукой был Амор,
Тебя считать моим, так отчего же
В обмане и в жестокости укор?
Мне честь моя твоих забот дороже».
Такой Фьямметты, мнится, приговор —
Я чувствую и сокрушаюсь в дрожи.
В который раз оглядываюсь я
На дни свои, и месяцы, и годы,
Что прожил я без счастья и свободы,
Одни надежды ложные тая.
Вступив на путь опасный бытия,
Я претерпел любовные невзгоды,
От них не вижу по сей день исхода,
Себя кляня и токи слез лия.