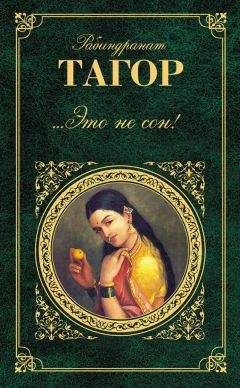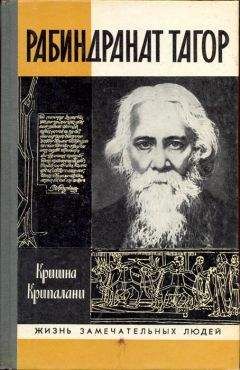Несколько раз являлся зять и шумел, требуя, чтобы жена возвращалась домой, понимая, что, пока она у меня, денег не очень-то выманишь. Но мало-помалу и это перестало быть для него помехой, и он опять стал приставать ко мне, требуя денег даже при Монороме. Сама Мону была тверда и запретила мне даже слушать его. Но я, глупая, опасаясь, что он еще больше обозлится на Мону, такой твердости в себе не находила.
— Ма, — сказала в конце концов Монорома, — отдай мне на хранение свои наличные деньги. — И она отобрала у меня шкатулку и ключи. Когда зять убедился, что теперь с меня больше ничего не возьмешь и что Мону не поддается на уговоры, он заявил, что забирает ее домой.
— Дай ты ему, сколько ему нужно, дорогая моя, — стала я упрашивать Монорому, — пусть бы он только ушел, а то кто его знает, на что он способен!
Но моя нежная Монорома умела быть непреклонной.
— Ни за что, — сказала она, — денег ему давать нельзя ни в коем случае.
Однажды зять пришел с налитыми кровью глазами и заявил:
— Завтра после обеда я присылаю носилки. Если не отпустите жену, — потом пожалеете!
Когда на следующий день у дверей появились носилки, я сказала Монороме:
— Теперь тебе оставаться просто опасно. Поезжай, доченька, а через неделю я пришлю кого-нибудь за тобой.
Но Монорома ответила:
— Можно мне побыть у тебя еще немного, ма? Сегодня я просто не могу ехать туда. Скажи им, чтобы приходили через несколько дней.
— Дорогая моя, если я отошлю носилки, — отвечала я ей, — то справимся ли мы с твоим буяном-мужем? Нет, Мону, лучше поезжай.
— Только не сегодня, ма, — молила она, — свекор сейчас в Калькутте, он должен приехать в середине будущего месяца, — тогда я и вернусь домой.
Но я все-таки настаивала, что это небезопасно, и в конце концов Монорома пошла собираться. Я же занялась приготовлением угощения для слуг и носильщиков, и занялась так усердно, что перед расставаньем нам даже не удалось побыть с ней вместе, я даже не приласкала ее, не одела своими руками, не накормила самым любимым кушаньем!
Уже перед тем как сесть в носилки, Монорома взяла прах от моих ног и сказала:
— Прощай, ма.
Тогда я не поняла, что она прощается навсегда! До сих пор сердце у меня разрывается при мысли, что она не хотела идти, а я сама заставила ее.
Той же ночью у Моноромы случился выкидыш, и она умерла. Прежде чем я об этом узнала, ее тело успели тайно предать сожжению.
Тебе не понять безысходного горя, такого горя, которого за всю жизнь не выплачешь. Но, хотя со смертью Моноромы для меня, казалось бы, кончилось все, беды мои, однако, далеко еще не кончились.
Сразу после смерти мужа и сына у братьев мужа разгорелись глаза на мое состояние. Они знали, что после моей смерти оно все равно перейдет к ним. Но им не хотелось ждать. И в этом их трудно винить. Как можно ожидать, чтобы люди, не знающие границ своим желаниям, мирились с человеком, которому ничего в жизни не нужно, но который тем не менее стоит на их пути к наслаждениям.
Пока была жива Монорома, я ни в чем не уступала деверям и, как могла, отстаивала свои права на наследство. Я решила, что оставлю ей все, что сумею скопить. Но девери не хотели примириться с тем, что я берегу деньги для дочери. Им казалось, что этим я обкрадываю их. Моим помощником и союзником в делах был преданный служащий мужа, Нилоканто. Он даже слышать не хотел, когда я начинала разговор о том, чтобы ради сохранения мира отдать им часть состояния.
— Хотел бы я посмотреть, кто посмеет лишить нас наших законных прав, — говорил он, бывало.
Моя дочь умерла как раз в разгар этой борьбы за мои права. На следующий день после ее смерти ко мне пришел младший деверь и посоветовал отречься от имущества и уйти от мира.
— Сестра, — сказал он, — видно, всевышнему неугодно, чтобы ты жила в миру. Шла бы ты в какую-нибудь святую обитель да посвятила бы остаток дней служению богу. А мы бы о тебе позаботились.
Я послала за своим духовником и спросила его:
— Скажи, святой отец, как уйти мне от нестерпимого горя, свалившегося на меня. Я не нахожу себе места, я будто в огненном кольце; я нигде не вижу пути к избавлению от страданий, куда ни повернись.
Гуру привел меня в наш храм и, указывая на изображение Кришны, сказал:
— Вот твой муж, твой сын, твоя дочь, все, что у тебя есть дорогого. Служи ему и молись, и сбудутся желания твои, и заполнится пустота в сердце твоем.
Но как я могла служить ему, если он не нуждался во мне и не принимал моих услуг?
И вот я стала дни и ночи проводить в храме, стараясь, чтобы все помыслы мои были о боге.
Я призвала Нилоканто и сказала ему:
— Нилу-дада, все свои доходы и имущество я решила отдать деверям, с тем чтобы они выплачивали мне небольшое ежемесячное пособие.
Но Нилоканто сказал:
— Нет, так нельзя! Ты женщина, и не тебе заниматься денежными делами.
— Но к чему мне теперь имущество? — спросила я.
— Как так «к чему»? — воскликнул Нилоканто. — Зачем отказываться от своих законных прав? Не надо терять голову, госпожа!
Для Нилоканто ничего, кроме законных прав, на свете не существовало. Но я оказалась в безвыходном положении. Мирские дела мне стали горше яда. И в то же время, как могла я огорчить старого Нилоканто, своего единственного верного друга? Ведь ему пришлось приложить столько усилий, прежде чем он сумел отстоять мои права!
И вот наконец, тайком от Нилоканто, я подписала какую-то бумагу. Я даже толком не поняла, что в ней говорилось, но, поскольку мне ничего не было нужно, я не боялась, что меня обманут.
Я думала, что все, принадлежавшее когда-то моему свекру, следует передать его детям.
Когда бумага была заверена, я призвала Нилоканто и сказала ему:
— Не сердись, Нилу-дада, я отказалась от имущества письменно. Мне оно больше не нужно.
— Что? — закричал в панике Нилоканто. — Что ты наделала?!
Когда он прочел копию документа и убедился, что я на самом деле отреклась от всех своих прав, его возмущение не имело границ: ведь после смерти своего господина он всю жизнь посвятил защите моих интересов! Все его помыслы, все усилия были направлены к этому. Он не знал другого удовольствия, кроме как таскаться по адвокатским конторам и копаться в законах. У него даже не оставалось времени на свои дела. Увидев же, как от одного росчерка пера глупой женщины все труды его пошли прахом, он не смог сдержаться.
— Ах так! — воскликнул он. — Ну тогда с меня довольно ваших дел. Я ухожу!
Чтобы Нилу-дада рассердился и ушел от меня вот так, в гневе — нет, это был уже предел моих несчастий! Я крикнула ему вслед:
— Не сердись на меня, дада!
Я упрашивала его:
— Я дам тебе пятьсот рупий, которые у меня еще остались. В тот день, когда жена твоего сына войдет в ваш дом, ты передашь ей мое благословение и на эти деньги купишь для нее украшений.
— На что мне деньги, — ответил Нилоканто, — когда все состояние моего хозяина пошло прахом! Какая мне радость от этих пятисот рупий. Пропади они пропадом!
И с этими словами последний истинный друг моего мужа покинул меня.
Я искала прибежища в храме. Но мои девери не давали мне проходу, настаивая, чтобы я отправлялась в какую-нибудь святую обитель да молилась бы там богу.
— У меня есть своя святая обитель — это дом, который я унаследовала от своего мужа. У меня есть бог, которому я могу молиться, — это бог нашего семейного очага, ему молились наши предки, — отвечала я им.
Но то, что я все-таки занимаю место в доме, раздражало братьев мужа сверх всякой меры. Постепенно они свезли свою мебель в наш дом и поделили между собой комнаты.
И наконец они сказали мне:
— Забирай с собой бога нашего семейного очага, против этого мы не возражаем.
Когда же все-таки я продолжала колебаться, они заявили:
— А на что ты, интересно, собираешься жить?
— Мне вполне хватит пособия, которое вы обещали мне выплачивать, — ответила я.
Но они сделали вид, что не понимают.
— То есть, как это? — возразили мне. — Ни о каком пособии и речи не было.
Теперь мне уже не оставалось ничего, как покинуть дом своего мужа, где я прожила ровно тридцать четыре года. Я отправилась на поиски Нилу-дады, но вскоре узнала, что он уехал во Вриндаван.
Вместе с другими паломниками из нашей деревни я отправилась в Бенарес. Но даже там моя грешная душа не обрела покоя. Каждый день я молилась: «О господи, замени мне мужа и детей!» Но, увы! Он не внял моим молитвам, и на сердце у меня так и не становилось легче, и слезы по-прежнему не иссякали. Боже мой, до чего же тяжела жизнь!
С той поры, как восьмилетней девочкой меня выдали замуж, мне ни разу не удалось побывать в отчем доме. Как я ни просилась, чтобы меня отпустили домой на свадьбу твоей матери, ничего из этого не вышло. Из письма отца я узнала о вашем рождении и вскоре после этого о смерти сестры. Но до сегодняшнего дня богу не было угодно, чтобы я прижала вас, моих сироток, моих дорогих детей, к своей груди.