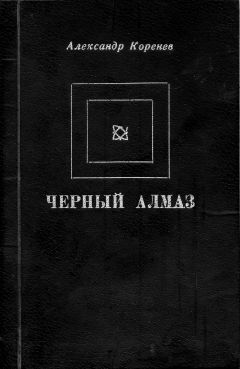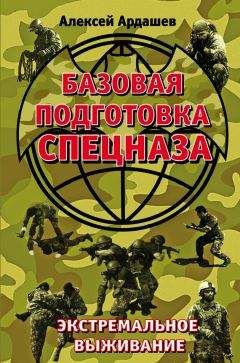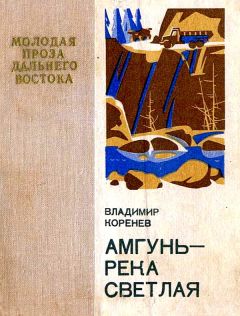Мы беспечны, как легкие йоги.
Через Каменный мост сами ноги
Нас несут.. Вдруг взносящийся, режущий
Вопль сирены воздушной тревоги
В мрак и сырость бомбоубежища
Загоняет нас порой по дороге.
Нас, крамольных, и торжественных, и шалых.
Мы с эпохой на ты, мы грубы.
Вдоль по голой шее драный шарф
Намотал ты, как вокруг трубы.
Как аэростат — в сфере морозной —
Круглая маячит голова,
И литаврами — стихов слова.
Так шагаешь ты, глазастый, рослый,
Михаил Кульчицкий, наш главарь.
Только денег ни гроша, и голод
В нас так юно, вдохновенно горд!
И вот в своем собачьем полушубке
В пустой ты шествуешь Литинститут.
Жмот кассир,
Но ты басишь, не шутки,
Снимая валенок, обмотки жуткие
Разматывая, наглец:
«Ночую тут...»
И тот, пугаясь, дает стипендию,
И в баре— барствуем мы от души,
Где — будто клопы энциклопедию —
Столы засиживают алкаши.
Ты восстаешь на стул,
Гремишь! «А ну-ка,
Стихи читаю, дуракам наука,
А понимающим — духовный свет.
Вот Саша Коренев,
Поэт-эстет...»
Я протестую, и читаю тоже,
Я ростом меньше,
Голосом потоньше.
Но знает спутник, я поэт какой...
Итак, в кафе, в том самом, у аптеки,
Горды, невозмутимы, как ацтеки,
Стихами бражничаем час, другой.
Да, в том кафе, на Пушкинской, не правда ли,
Пусть снесено, но след его — как свет…
И мы выходим после пива с крабами
(Навалом крабов-то,
Но хлеба нет).
Хлеба в Москве в обрез, карточки кстати.
С Мишкой подправим талон,
Но все равно не еда...
Коля Глазков живет
Тут на Арбате:
Дом сорок четыре, квартира двадцать два.
3
Ну, айда! И в спорах о поэзии
Зимним вечером,
До синей тьмы —
Зенки свои выпуклые весело
Щуришь ты, верзила, —
Бродим мы!
Набережными, куда нам торопиться,
Мглой замоскворецких тупиков.
С голоду все вдохновенней лица,
Скулы все смуглее, со стихов.
Вспомнил? Дом мой на Ордынке
Помнится?
Чечевицу? Нас в т р о е м
По вечерам?
Рев сирены... Девочку ту, спорщицу,
Что играла на рояле нам...
Так играла! Ты бурчал осторожно:
«Все стихи перед нею слабы».
Эта девочка... Косы уложены
Ореолом вокруг головы.
Эта девочка, нимбом увенчана.
Нет, не девочка... эти женщины
Гениальности знаком отмечены,
Раз в столетие их приход.
Их — бег времени,
Нет, меч времени
Тут же губит, не бережет.
Гасло электричество мгновенно,
Мы сидели
При свечах и без,
С воя разраставшейся сирены
Разрывалось сердце у небес.
Но доигрывала тихо, чисто
Моцарта впотьмах она и Листа.
Да и что нам лай зениток, резок?
Разве ты не чувствовал лучистость
Людину? Улыбки ее блеск?
Света нет?.. Но светом непомерным
Счастья, правды жизнь полна моя!
Вот любовь и вот юнцы — друзья…
Кто же знал,
Что сгинешь самым первым
Ты, и лишь
Наипоследним я.
Впрочем, «ты» да «мы»,
Прием привычный.
Нет тебя. Таким... Истлело, дО тла.
Ты убит,
а серость и вторичность
Век живут,
Ну это ли не подло!
Почва после гроз кишит червями.
Но позор, Кульчицкий, вот так роль!
Эпигонами,
безродной рванью
Место схапано
Твое, король!
Рядом лишь возник недалеко
Коля, он оракул тоже,
Из калик российских перехожих,
Что от бога... Николай Глазков.
Он сказал про обстановку тонко,
Он сказал
Про век необычайный:
«Чем он интересней для историка,
Тем для современника печальней.»
И сказал про себя он сурово;
«О, поэзия, сильные руки хромого!»
Первых выбило. Но, как известно,
Свято место — не бывает пусто,
И вновь пыжится
искусства тесто
На дрожжах
Лишь нашенских, изустных!
Век заканчивается,
Лет еще тридцать,
И на моих строк звенящий звук,
Как на падаль воронье, слетится
Разное кандидатье наук.
И тогда-то, друг,
Собрат мой славный,
Я и ты, тучей навесной,
Встретимся опять, уже на равных,
Где-нибудь на сквере, в час ночной.
Не из ямы там или из гроба,
А с глухих высот небытия.
Господи, да мы убиты оба:
Пулей — ты,
замалчиваньем — я.
И теперь у нас один хозяин,
И ему, Господь он или бес,
Как и в юности, вызов бросаем,
Для поэзии сбежав с небес.
Ты осклабишься: «Черт или Бог,
Взгреет, что посмели отлучиться».
А ты кинь ему в лицо,
Кульчицкий,
Снова — горсть —
своих корявых строк!
1967.
В мире тихо, как в воде.
Лишь
качание ольхи.
Где-то на иной звезде
Пробудились петухи.
И уже
светает плавно.
Словно тронуты весы.
На столбах на телеграфных
Чашки
в капельках росы.
У болота лепет жаб.
Мы войдем, оглушены,
В лес,
где орудийный залп
Непрерывной тишины.
1938.
Дыханью пар и домовитость избам
Ты вновь даешь, морозная зима, —
Когда метель
сверкающим батистом
Застелет даль, дороги и дома;
Когда наутро,
скатываясь круто,
Пригорок расчертили полоза,
Где пни идут, как будто лилипуты,
Ушанки снега
сдвинув на глаза;
Где, заглядевшись в небо исподлобья,
Отяжелев от неподвижных дум,
Огромный бор
нахмурил брови-хлопья,
Как седовласый сказочный колдун;
И тонко воздух дребезжит морозный,
Где ест пила высокую сосну,
И, ахнув,
медленно ложатся сосны
В пуховую глухую белизну.
И, белополье заливая с неба,
То не заря восстала ото сна,
А щеки неба
пригоршнями снега
Натерла даль
до жаркого красна.
Белым-бело... Перемело у дома.
Зима, зима, лесные терема...
Родная, ты мне сызмала знакома!
Как ты неузнаваема,
зима!
1947.
Я так люблю ходить чуть свет
по белые грибы.
Завидуя,
глядят вослед дорожные столбы.
Рассвет! — произнести боюсь,
сказать боюсь о нем.
Его б нарезать, как арбуз,
да пить его, ломтем.
Вбрести в кустарники не лень,
в лесные острова,
Штаны замочит до колен
глубокая трава.
Здесь лес вздымается, могуч.
Века, не зная сна,
О ветрености
быстрых туч
здесь думает сосна.
А там — пустая синева... Огромно — далеко...
Коль закружИтся голова,
туда упасть легко.
Порой
так тишина чутка (о хворост не задень) —
Поскрипывают
облака,
щебечет светотень...
А гриб сыскаться не спешит. Ищу и так и сяк.
А он мелькнет
да и сбежит,
как вспугнутый русак.
И что нелегкая несла! Обратно — напрямик.
Зато — у самого села —
нашелся боровик.
Уже прохладно. Скоро пять.
Как щи щекочут нос!
Жена рассержена опять.
А я букет принес,
Ты выговариваешь мне. Меня ругать нельзя.
Как в паутине,
в тишине
и уши и глаза.
Не порицай. Не надо так. Я заплутал в пути.