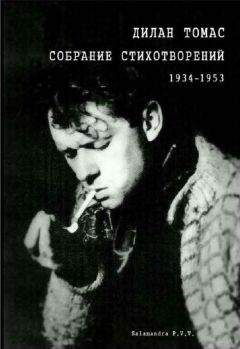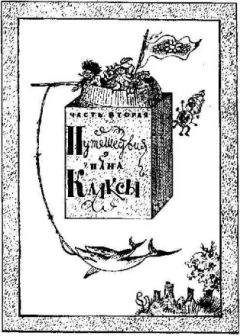Мне потом мужики говорили:
Рыдала она о том,
Что, мол, руки обнажены,
И что так зацелованы губы –
До черноты запеклись,
И рыдала она – будто в родах, –
И корчилась в муках судорог,
И простыни раздирала,
Но из глаз вырывалась радость…
Так вот я в торопливом фильме
Видел встречу обезумевшей бабы
Со смертью на брачном ложе
Через тень рубежа родового,
Перепутанного с зачатьем,
Слышал каменные слова
Серой птицы с оббитым клювом,
Стерегущей ее могилу:
«Я спиной чуть коснулась постели,
Вся моя утроба взревела,
Я почувствовала в паденье,
Как меня пополам разрывала
Грубая голова…»
Три тощих месяца
в большом кошельке моего тела, в проклятом
Брюхе этого года, в его богатом самодовольстве!
С горечью я тащу на проверку
мою нищету и мое ремесло:
Взять, дать – и всё?
Вернуть то, что было жадно дано, и в никуда унесло?
Вдувать фунты манны
росой назад в небо?
Да где там – работа слов!
Дар болтовни надеть на слепую палку языка –
получится помело…
Подобрать или нет что-то из сокровищ людских –
удовольствие лишь для смерти: в конце концов
Она-то сгребет все валюты любого дыхания любых творцов,
И вслепую, в дурной тьме
Утерянные тайны кое-как сумеет пересчитать.
Сдаться после этих трех месяцев?
Кто взял чужие мысли, тот заплатит молоху дважды!
Нет! Друиды в чащобе крови моей да будут затоплены
только моим собственным морем,
Если с неба взяв этот мир, спалю я его впустую!
Ибо долг мой – создать и обратно небу отдать.
58. СВЯТОЙ, КОТОРЫЙ, КАЖЕТСЯ, ВОТ-ВОТ
Святой, который, кажется, вот-вот
Как Люцифер или Адам, падет –
Когда все разноцветные равнины рая
Разрушены рожденьем:
Рожденье – есть изгнанье! Рай, прощай!
И всякий, кто рожден, взлетает на последней той волне,
Целуя призрачной одежды край
Своим воздушным змеям.
И песнь скалы, как будто песнь стены
Жилья отцовского, там на песке времен
Раскручена... Все глохнет от нее –
И колокольный звон,
И голосок шкатулки музыкальной,
Что был не заведён – а заменён
Шуршащим кашлем роковых песочных
Часов, подсчитывающих, как пробегает кровь,
Часов, явившихся на лике циферблата, который вдруг
Сложился из бегущих стрелок рук –
Рук ангела, возникшего на Этне
Последним прошумевшим изверженьем в земле отцов:
Шар огненный с дырой посередине –
Вулкан – верхушка стога. И колодцы
Полны вином.
Голодный гимн небес,
Шурша сандалий мощными крылами,
Поет Гермес.
И пламенея, с ним «поет сонм херувим»:
Разрезан хлеб христовой евхаристии!
И в лабиринтах пламенных завистлива
Речь ракушек над самым дном пустым.
Что слава? Лопается как блоха.
И солнцелистые свечные сосны
Вдруг съерундились все в один спаленный крест
С огрызками бутонов обгорелых,
А корабли на рыбьих плавниках,
Те корабли, что нам приносят кровь,
Плывут по разбегающимся волнам.
С новорождённым вместе выпадает небо,
И пьяный колокол бьет в воздухе без слов!
Будись во мне, в моем нависшем доме,
Над грязной раной этого залива,
Между кричаще-красных берегов.
Мой дом, ты выхвачен из суетни,
Из городской карболовой постели.
Твердь вечная развернута над нами,
С возвышенными белыми корнями
Глядит меж облаков в распахнутый мой дом,
И молоко уже во рту твоем.
Взгляни на этот череп – шар земной
В колючей проволоке всех волос горящих,
В огне мозгов, расплавленных войной!
Сбрось бомбу времени на рай, на город.
Стропила – выше! Вырастай из рая,
Свой смутный страх камнями завали,
Страх перед тьмой убежища былого,
Где скручен ты меж иродов вопящих,
Когда клинки их рядом маршируют,
А взгляд убийственен... И сердцу снова
Приходится пружину заводить:
Страданью нужно новый рот кормить.
Проснись в миг благородного падения, Не замечая грязного явления цыплят... Стекает горе с губки сморщенного лба.
Дыханье придержав, железно, как судьба,
Ты, незнакомец, входишь в наше иродово время,
Кричи же радостно: колдунья-акушерка
Тебя вытягивает в море грубой жизни
И пальцем вверх показывает – «Во!!!»
А солнце гулкую арену сотворит
Из окруженного, стесненного пока
Руками женственными островка
Для будущих коррид.
«Если боль причинит моя голова твоим ляжкам,
Затолкай обратно того, кто стремится вниз! Ну смотри:
Ведь шарик моего дыханья еще не взорвался,
Он столкнётся с лиловой мордашкой –
И пойдут пузыри!
Лучше вывалюсь я с червяком веревок вокруг горла,
Но эту сцену я не помешаю актерам доиграть!
Да, для петушьего боя сгодятся игривые фразы зверька,
Я пройду сквозь леса, полные ловушек, затеняя лампу перчаткой,
Буду в утиные часы дня танцевать и клеваться,
И прежде, чем припадая к земле я выгоню призрака,
В гулкой комнате стукни меня слегка ...
Если жестоким тебе покажется мое мартышечье появленье,
Отправь меня обратно в сотворивший меня дом,
Моя рука уже нащупывает выход из глубины твоей,
Кровать – место принятия креста, который буду всю жизнь я нести,
А чтоб пролететь девять месяцев из глубин и до самых дверей –
Сделай в пустыне прямыми мои пути».
– Нет, нет, ни на сияющее ложе самого Христа,
Ни на перламутровый сон в чем-нибудь мягком и колдовском
Не променяю я слезы мои – пусть железная у тебя голова,
Но толкай, дочь или сын, толкай: ведь обратного хода нет,
А громоздкие ливни с небес льют и ночью и днем.
Вот проснусь, и движенья ослабнут, и радостно вздохнет пещера,
Где рос ребенок, которому от грядущих бед век свободы не знать,
О моя потерянная любовь, изгнанная из меня какими-то вышибалами!
У зерна, спешащего своим путем от края мокрой могилы,
Есть и голос, и дом – есть где плакать и где лежать.
Оставайся! Нет иного выбора для горстки праха.
Оставайся у груди, полной молочными морями,
живи, сколько положено лет,
Все равно ни волнами жирных улиц, ни скелетными худыми путями
В ту могилу, из которой ты вышел,
Возврата в мое спокойное тело нет.
И начало чудес бесконечных откроет тебе этот свет!
60. СЛЕЗЫ У МЕНЯ НА ГЛАЗАХ
Слезы у меня на глазах напоминают мои двадцать четыре года.
(Похорони мертвецов
из страха, что сами пойдут к могиле в трудах и родах!)
На выходе из рождения в мир, на том самом пороге
Я сижу, как портной ссутулясь, и свесив ноги,
И старательно шью себе саван для долгой дороги
При свете плотоядного солнца, кровавое мясо жрущего,
В смертной одежде,
начинаю свой чувственный путь
вдоль всего сущего,
Мои алые вены полны самой ценной в мире валютой валют,
Но к тому неизбежному поселенью, куда все идут,
Я двигаюсь столько времени, сколько длится мое «навсегда».
НА ПОРОГАХ СМЕРТЕЙ (1946)
Две молитвы, которые должны прозвучать вот-вот –
Из уст ребенка, идущего спать, и из уст мужчины,
По лестнице поднимающегося к умирающей любимой.
Первому все равно, где окажется он во сне,
А второй в слезах по ступенькам идет.
Две молитвы во тьме вознесутся с зеленой земли,
В ожиданье ответа, обращенные к небу молитвы:
Человека на лестнице и ребенка возле кровати,
Молитвы о мирном сне и об умирающей любви,
Молитвы, которые вот-вот должны прозвучать, – и
Сольются, сплетутся в одну взлетающую к небу печаль.
Так заснет ли спокойно ребенок и зарыдает ли этот
Мужчина? Но слиянье в одно двух молитв,