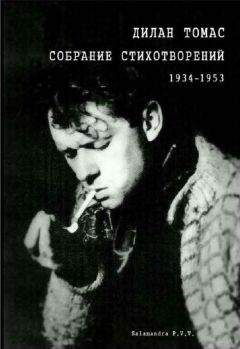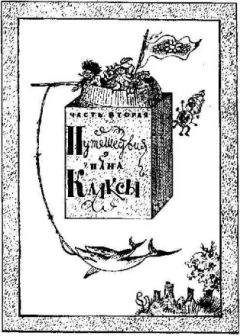что вот-вот должны прозвучать,
Живое с мертвым сплетет,
и человек, идущий по лестнице,
Увидит любимую в комнате наверху
не умирающей, а живой и согретой
Его заботой, силой его тепла.
А ребенок, который и не думает, до кого долетит молитва, –
Медленно утонет в печали, глубокой как могила,
И темная волна, пролетев по сонным глазам,
Втянет его вверх по ступенькам к той, которая умерла…
62. НИКОГДА ЕЩЕ ПРЕДВЕЧНАЯ ТЬМА
Никогда ещe предвечная тьма,
Что ставит на место всех нас,
Птиц, людей, зверей и цветы,
Не могла сказать ни о ком
Таким пламенным языком,
Как тогда, когда вышел спокойный час
Из моря, шевелящегося в упряжи темноты.
Надо снова войти в Сион
Круглой водяной капли, или
В синагогу зерен кукурузного початка.
Должен ли я позволить, да и для чего,
Чтобы тени звуков сами Его молили,
И на саване самая мелкая складка
Стала почвой для соленого зерна моего?
Чтоб оплакать детской смерти величие и горенье,
Страшную правду я не хочу у людей отнять,
И еще одной элегией о невинной юности
Кощунствовать в то мгновенье,
Когда кто-то остановится подышать!
Вместе с первым на земле убитым,
В длинную дружбу одета
Дочь Лондона лежит и…
Возраста не знает зерно!
Никого не оплачет Темза. (О, темная вена, улица эта!)
После самой первой смерти
Быть другим смертям – не дано.
Земную жизнь пройдя до тридцати,
Я проснулся от голосов
Гавани и соседних лесов:
На темных камнях в лужицах отлива радостно толпились
Мидии. Цапля славила берег. Утро меня позвало
Молитвой воды, криками чаек, скрипом грачей,
Ударами лодок о повитую паутиной стенку причала,
И повелело
Отправиться
В спящий и предрассветный город.
Мой день рожденья начался с того, что водяные птицы
И окрыленные деревья
Над фермами и над головами
Белых пасущихся лошадей
Пронесли мое имя на крыльях,
И я проснулся, и встал в дождливую осень, и вышел,
Чтобы сквозь ливни всех моих дней
Идти.
И был прилив, и ныряла цапля. И был – я.
Я ушел, а город проснулся, тут же ворота закрыл,
И не стало обратного пути.
Катящиеся облака были жаворонками набиты,
И свистящими дроздами полны придорожные кусты,
И октябрьское солнце
Наполнено летом, паутинкой повито
На плече холма, где певчие ветры
Наперебой с крылатыми певцами
Врывались в утро…
А я себе брел и слушал
Холод ветра, выжимавшего дождик из пустоты
Далеко внизу над лесами.
Бледнел дождь над удалявшимся,
Уменьшавшимся портом.
У моря – мокрая церковка, с улитку величиной,
Из тумана торчали рожки ее – и замок,
Коричневый как сова, едва ли не черный.
И сады расцветали в летней сказке,
За городской стеной.
И без конца мог бы я удивляться чуду
Своего дня рождения,
Под катящимся облаком, жаворонками набитым,
Но погода решила поссориться со мной.
Она отвернулась от блаженной страны,
Явился иной воздух,
Иное небо,
Но опять голубое летнее чудо нахлынуло с вышины
С яблоками, грушами, смородиной,
И я увидел ребенка, которого давно уже не было
И нет,
Бредущего с матерью в глубину позабытых дней
Сквозь разговорчивый солнечный свет,
Через легенды зеленых церквей,
Сквозь пере-пересказанные бормотанья детства.
Его слезы обжигали мне щеки,
Его сердце билось во мне.
И был лес, и были река и море, а к мальчонке
Множеством лиц
Старалось прислушаться, приглядеться
Лето мертвых,
Когда радостные истины шептал он
Деревьям, камням, рыбам и крабам на морском дне.
Это живое чудо
Звучало, журчало
Голосом воды и разноголосицей птиц.
Без конца
Я мог бы удивляться чуду моего дня рождения,
Под облаком, жаворонками переполненным,
Но погода
Отвернулась от меня разом.
А настоящая радость
Давно умершего ребенка пела
И разгоралось на солнце пенье:
Вот он, мой тридцатый год.
Он стоял тут в солнечный июльский полдень,
Когда город внизу лежал,
окровавленный листвой осенней…
Так пускай же правда сердца на этом холме
В мелькании лет поёт!
64. ПРАВДУ ЖИЗНИ С ИНОЙ СТОРОНЫ
Правду жизни с иной стороны
Ты не сможешь, мой сын, увидать,
Ты, король своих синих глаз,
В ослепленье так молоды сны:
Все что было – возникнет опять
В прежнем месте и в прежний час.
Все вернется к истоку вновь –
Разве кто возразит в небесах? –
Хоть невинностью, хоть виной –
Изо всех твоих дел и слов –
Как живое вернется в прах –
Так исчезнет поступок любой.
Два пути – путь добра или зла,
Оба к смерти тебя приведут
По размалывающим морям,
Ведь путей только два, только два –
Отлетишь, словно тучки вздохнут
По слепым убегающим дням,
Сквозь тебя или сквозь меня,
И сквозь души иных людей,
В смерть виновную, в смерть без вины…
Ты, король прожитого дня,
Отлетишь от жизни своей,
Словно звездная кровь с вышины.
Слезы солнца, и мелкий хлам,
И летучих песен огонь…
Ты король своих детских лет,
Но как тень твоя, пало к ногам
То желанье, что стало грехом,
И начала которому – нет,
Потому что в начале начал
У корней мирозданья найдешь
Все слова и поступки свои,
Потому что, судьбы не ища,
Умирают и правда, и ложь
В никого не винящей любви.
Враг в облике друга! С глазом, на котором медно
Поблескивает тусклый фальшивый пятак,
Приятель-предатель, ты, который с видом победным
Враньё обо мне зажал в кулак,
Ты, охочий все время смотреть и
Ловить мои самые мелкие секреты,
Ты, соблазненный перемигиваньем взглядов,
Еще когда я – пешком под стол,
С соской во рту – ну что тебе было надо,
Что уж такое ты стоящее тогда нашел?
Я еще не сорвался с цепи безусловно,
Так чего ты хотел от меня тогда,
Когда до моего сладкоежества любовного
Еще оставались года и года?
Вот я – фокусником из шляпы с полями –
Вытаскиваю наподобие кролика или рыбки,
Торчащую в памяти, слепленной зеркалами,
Твою воровскую рожу, со скошенными от вранья глазами,
В процессе фабрикованья умильной улыбки,
С укрытыми в бархатные перчатки руками,
И знаю, что сердце мое целиком
Распластано под твоим молотком, –
Ты так был искренен, так весело щебетал,
А я и слова вымолвить не решался,
Когда ты правду слегка сдвигал,
А меня убеждал, что я ошибался…
Друзья, не раз вы меня надули,
Но я вас любил даже в ваших грешках,
Ну что я мог видеть,
когда перед глазами были только ваши ходули,
А башку – так и вовсе не разглядеть в облаках?!
66. ЛЮБОВЬ В СУМАСШЕДШЕМ ДОМЕ
Незнакомка пришла поселиться
Со мной в комнате, которая в доме,
В котором у всех съехала крыша.
Эта девочка тоже безумна, но безумна как птица.
Дверь мою оперённой рукой запирая,
В лабиринте кровати она, тонкая и прямая,
Надувает весь этот дом, намертво отделенный от рая,
В него облака впуская,
Каждый шаг ее морочит полную кошмаров палату.
Все заперты. Свободнее мертвецов она одна,
Оседлывает волны всех океанов: и вот волна
Плещет в воображении всех мужских палат,
И в этом бедламе она,
Командуя подскакивающими стенaми,
Впускает призрачный свет,
Одержимая небесами, жаждущими молчанья,
И спит, и бредит, и бродит по праху,