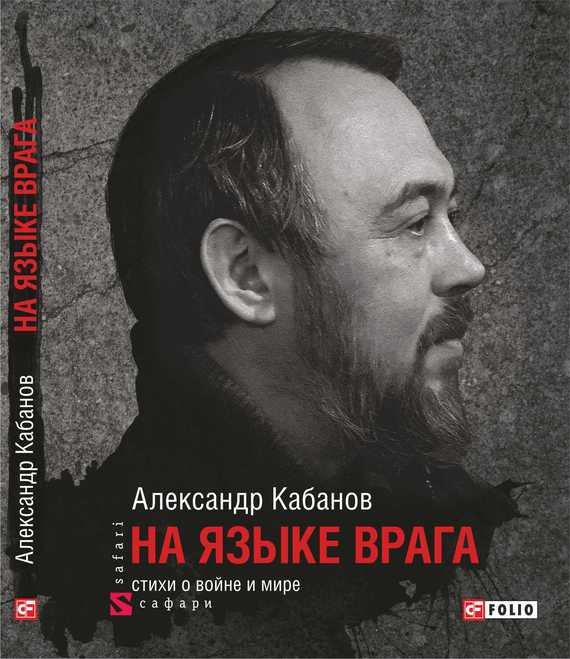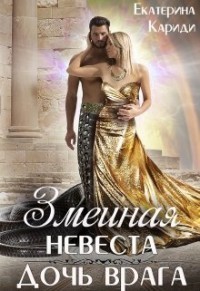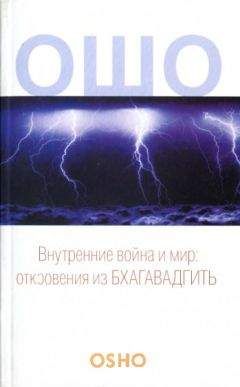Александр Кабанов (р. 1968 году в городе Херсоне) – украинский поэт, живущий и работающий в Киеве, пишущий на русском языке. Автор 10-ти книг стихотворений и многочисленных публикаций в журнальной и газетной периодике: «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Континент», «Дружба народов», «Арион», «Новая газета», «Литературная газета» и др.
Лауреат «Русской премии», премии «Antologia» – за высшие достижения в современной поэзии, премии журнала «Новый мир», Международной Волошинской премии и др. Его стихи переведены на финский, сербский, польский, грузинский и др. языки.
Александр Кабанов – главный редактор журнала о современной культуре «ШО», координатор Международного фестиваля поэзии «Киевские Лавры», один из основателей украинского слэма.
«На языке врага: стихи о войне и мире» – одиннадцатая книга Александра Кабанова. В нее вошли новые стихотворения, написанные в 2014–2017 гг., а также избранные тексты из сборника «Волхвы в планетарии» (вышла в издательстве «Фолио» в 2014 г.).
Ключевой смыслообразующий тезис новой книги поэта: «Язык не виноват. Всегда виноваты люди…»
Кроме сборника «Волхвы в планетарии», в издательстве «Фолио» были изданы книги «Весь» (2008) и «Happy бездна to you» (2011).
болотная гнусь,
вскрикнул нолик в спасательном круге:
я люблю тебя так, что женюсь
на твоей некрасивой подруге.
Вспыхнет чучело белой совы:
ты увидишь в рассеянном мраке,
что у Гоголя – две головы,
а не три, как твердят на филфаке.
Да, у Гоголя две головы,
будто это Алупка-Алушта,
почему? – ошарашены вы,
потому что, мой друг, потому что.
Если правую бошку отсечь,
ибо левая бошка в декрете —
потечет малоросская речь
болоньезом к любому спагетти.
Если Гоголю нос потереть —
на удачу, в насмешку над словом —
мы забудем о Гоголе впредь,
о чудовище дваждыголовом.
А у Пушкина восемь хвостов —
утверждал Д. Иваныч Хвостов:
не четыре, а восемь, зараза,
покидаю срамные места,
и пускай, заикаясь, до ста
мне считает звезда – одноглаза.
«Вот котенок, который умрет…»
Вот котенок, который умрет
через восемь и с хвостиком лет,
вот ребенок который умрет
в непонятные семьдесят пять,
только ты, мой божок-пирожок:
то умрешь, то воскреснешь,
а когда умираешь —
вся жизнь замирает вокруг,
начинается счастье,
цветет золотая омела,
поднимается хлеб,
заливается велосипед,
если б сердце мое,
если б сердце твое и мое
зачерствело.
«Как женщина – пуста библиотека…»
Как женщина – пуста библиотека,
исчадие Днепровского района,
а выйдешь в сад и встретишь человека,
тоскующего в позе эмбриона.
Он стар, небрит, он нынче много выпил,
хмельные слезы слизывают слизни,
его лицо – багровое, как вымпел,
как подлость этой жизни, этой жизни.
Сожженных книг врачующее слово,
бессмертье с переметною сумою,
и мой сурок мне говорит сурово:
не я с тобой, а это ты – со мною.
Херсонская разграбленная область,
трещат полей арбузные поленья,
и человек уверовал, что подлость —
сильней и милосерднее спасенья.
«Первый бомж подарил мне божью коровку…»
Первый бомж подарил мне божью коровку,
а второй завернул хитро:
выводи себя, как выводят татуировку,
третий сплюнул и шмыг в метро.
Я ее кормил шаурмой из вальса,
за окном светился мурал,
улететь на небо тренировался —
кубик Калашникова собирал.
Ох, не мудрено потерять сноровку
в дебрях страшного ремесла,
я б возненавидел божию коровку,
но она – ползла.
«Если б было у меня много денег…»
Если б было у меня много денег,
чтоб сходить с тобой с ума понарошку,
я бы выбросил в окно старый веник,
целовал бы я кота на дорожку.
Словно конник, оседлав подоконник,
я сидел бы и смотрел в подстаканник,
выбирал бы: или джин, или тоник,
а на закусь: лишь чак-чак да паланик.
Собирал бы я каменья пращою,
будто ангелов чертовски опавших,
я кричал бы из окна: всех прощаю,
от моей большой любви пострадавших.
Если б, если б – помечтать – не работа,
позвонил бы, но лишен подзарядки,
старый веник, если встретишь кого-то,
передай, что я в порядке, в порядке.
«Деревья в очередь на жилье…»
Деревья в очередь на жилье
стоят, раскручены, как улитки,
снег предлагает термобелье,
не замечая сосулек скидки.
Ну что же ты, лежишь, как бревно,
овальное на квадратных метрах,
в кровати с видом на Люблино,
одна в одних полосатых гетрах.
Под стать японским городовым,
подобно Сухову-Гюльчатаю:
по черным кольцам, по годовым
и обручальным тебя читаю.
«Повторов, ты в единственном числе…»
Повторов, ты в единственном числе
непохмеленный, въехал на осле —
через пустыню – в Яффские ворота,
как золото с мечтой о санузле —
на бороде твоей сияла рвота.
И мы вошли толпою за тобой,
вставал закат с прокушенной губой,
в часах песочных – середина мая,
о, как мы долго верили в запой,
твои тылы надежно охраняя.
На горизонте лопнула печать,
нас были тьмы, теперь осталось пять:
я, снова я, разъевшийся, как боров,
прошу, не умоляй тебя распять,
мой переводчик, старый друг Повторов.
И эту страсть, враждебную уму,
не избежать, Повторов, никому,
смотри, как перевернута страница,
и холм стихотворения в дыму,
и крест на нем – двоится и троится.
«В шапочке из фольги и в трениках из фольги…»
В шапочке из фольги и в трениках из фольги —
я выхожу на веранду, включив прослушку:
чую – зашевелились мои враги,
треба подзарядить лучевую пушку.
Утро прекрасно, опять не видать ни зги —
можно курить, но где-то посеял спички,
…альфа-лучи воздействуют – на мозги,
бета и гамма – на сердце и на яички.
Чуть серебрясь, фольга отгоняет страх,
жаль, что мой гардероб одного покроя,
вспомнилась библия – тот боевик в стихах,
где безымянный автор убил героя
и воскресил, а затем – обнулил мечты;
Что там на завтрак: младенцы, скворцы, улитки
и на айпаде избранные хиты —
сборник допросов, переходящих в пытки?
Если на завтрак нынче: сдобные палачи,
нежные