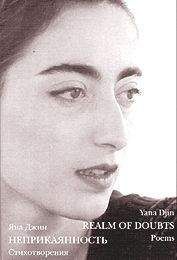Пер. Нодар Джин
РЕКВИЕМ ПО НЕСБЫВШЕЙСЯ ЖИЗНИ
Вот ведьма, —
но в её плоти душа
красавицы теплилась Абишаг…
(Роберт Фрост)
Когда твой лоб, как шляпа фетровая,
готов сорваться и лететь по ветру,
утаивать устав твои запретные
мыслишки, — то забудь помимо прочего
того, кто виноват, что не помочь тебе.
И не горюй: печаль — из самых вещих,
не подлежащих увещанию вещей,
лежащих за чертой, в земле ничьей.
Когда знакомая земля среди ночей
и дней твоих мерилом постоянства
перестаёт служить тебе, пространством
становится пустым, в пределах коего
твоя судьба блуждает и не скована
твоей же волей,
и когда приходит ночь,
которая не в силах превозмочь
себя, — и в собственной же темени
ей не распутать мысли в темени
твоём, тебе осталось — вон и прочь!
Но прежде, чем бежать, окинь
себя прощальным взглядом. Сгинь
под ледяным — твоим же — взором.
Ты — туша тучная.
Некаркающий ворон,
что разленился и кричать, — к чему?!
Вокруг — пустырь, и никому
не слышно крика. Никого
ему не удивить. Его
удел — средь пустыря
валяться мёртвым камнем. Зря.
Земля лишилась контуров.
Пустынна.
Ни рубежей, ни горизонта.
Длинно
влачится как-то. За самой собой.
А ведьма, ты, — за нею вслед
бредёшь по ней
в бредовом сне.
И словно боров,
ты плетёшься на убой.
Туман полночный пред тобой
распух, как веки, — вразнобой
теперь в мозгу твоём пульсируют картины:
Пространство. Ведьма в нём. Забой. Скотина.
Да, полночь.
Ты бредёшь одна.
Себе ты до смерти скучна!
А впереди — очередной налёт из мозга.
Предательством уже не боль,
а соглашательство с собой,
рассудком собственным, считаешь. Вот и возглас
его ещё один: Не пить!
Коровой жирною не слыть,
которую не скроет и туман!
Ну что ж, ведь так оно и есть,
но вот ещё правдивей весть:
непьющая — ты тот же истукан!
Стареющею ведьмой я
кружусь в пространстве. Жизнь моя
ему подобна. Пусто в ней и жутко.
Но я теперь её лечу
тем, что бежать куда хочу
учусь, не руководствуясь рассудком.
Смотрю на всё, что есть окрест,
не сквозь забот насущных крест,
а сквозь петлю моих воспоминаний.
Мне в горло все они впились,
как в риф полипы. «Торопись! —
шипят. — Беги отсюда без прощаний!
Беги!
Беги без обещаний,
колебаний и оглядки.
Беги из места,
где нехватке
всего и вся обязано
виденье,
в котором тесно связаны
впаденье
пчелы в гудящий транс
и ниспаденье
её в гуденьи общего презренья.
Беги во имя самого движенья,
пренебреженья к Азии,
к реченьям
её про истины лишенья и смиренья,
беги её: при первой же оказии
она в тебя вонзает нож, —
твоё существованье. Ложь.
Твою печаль.
Её тебе
никак не вытравить теперь.
Она, как жизнь,
покрыла сплошь
тебя. Забудь её.
Не трожь.
Не трожь и эту жизнь твою.
Беги скорей
её. Рывок — и вон из ней.
Смотри — тигрица агнца забивает.
Смотри — овцы кровицей запивает.
Вот и беги. Беги. И при
этом клеть свою запри,
чтоб не вернуться. Не молись, — не ври,
как врут и врали будды толстозадые,
что кармами закармливают, гады!
Не верь ты их слюнявым всхлипам
и сиплым увещаньям. Липа!
И обещаньям, будто в случае
таком-то ждёт нас что-то лучшее,
что скоро вечность сладкую разделим
с бездельниками в рае да в безделье…
Запомни же, что вечность ждать не следует».
(За ожиданьем продолжения не следует…)
Пер. Нодар Джин
Из розовой краски, я видела, птицы фламинго
взрывались и рвались на волю, стараясь картинку,
испортить, привлёкшую к клетке толпу из зевак.
И голосили вовсю, чтобы голос иссяк.
Они изводили себя, — пусть и белую зависть
серостью серые в них пробуждали раззявы…
И — отшумели. Теперь уж блуждают, как в Праге —
Кафка когда-то: отсутствуя, в трансе и мраке.
Но в забытьи своём розовом птицы, как Иов,
робко теперь уже просят у Бога лишить их оков —
неанонимности, красок, узоров, надежд,
и в голубей обратить, в безобразных невежд.
«Нам бы и голос такой обрести, как у них,
ибо ушей мы не знаем помимо глухих
к чистому голосу боли, к стенанью бродяг.
Нам — воробьями бы, Господи, цвета дождя.
Или булыжником нам непотребным бы стать —
слишком тяжёлым, чтоб кто-то нас стал поднимать.
Доля шутов городских нам давно надоела:
красочность наша и искренность — гиблое дело».
Но будет — как было всегда и как есть: голубей
к мусору тянет потребному, а воробей
славит простое и серое… Серому люду,
птица фламинго нам люба, прекрасный ублюдок.
Пер. Нодар Джин
Ал-ла-а-ах! — и с воплем
на волю тщится
пробиться боль из груди, куда
она проросла из хаоса раньше,
чем из него пробился мир.
Вместо неба это пространство
проклятием пребывания крыто.
Вместо птиц солдаты с железными
крыльями реют, — сеют смерть.
Входит в скалистую землю неистовство,
как и влага, однако, — зря.
Ничто ни к чему в ней пристать не может.
Не может она ни родить, ни радеть.
Может крошиться,
но что ни крупица, —
страдает отдельно от всех, в себе.
Снуют на ней ослы привиденьями.
Люди мелькают зыбкими тенями.
Сердца у них забыли сердцами
быть, обернулись сухими мехами
желудков пустых, как полы и голы
гор кандахарских пещеры и норы.
К глазам, от лишений лишившимся мысли,
тяжёлым, как доля пса при слепце,
не пристанет и жалость отныне,
стынет в них вместо — мести свет.
Спасенью умение забыванья
да ломоть хлеба да горсть любви
хватили вполне бы… Теперь уж неба
остатки осталось молить о том,
чтоб земля покрылась густым туманом,
чтоб детей ослы унесли бы в ночь
прочь от родителя, злого дурмана,
чтоб исход по горной кружной тропе
вывел их к обетованному полю,
где красным только маки мерцают,
чтоб в красном этом они завалились
и задышали забвением вволю.
Пер. Нодар Джин
Жизнь моя
здравым смыслом замучена.
Сижу, наблюдаю за ней неотлучно
в кривую лупу:
она ядозубой
въелась пиявкой
и в плоть, и в душу…
Но я, как из лавки червивую грушу,
выброшу вместе с душой и тушу.
Сижу, наблюдаю —
воспоминания
в зловещий разрастаются гриб.
Потом —
пустота внутри и молчание,
как у выпотрошенных рыб.
Все, как они, —
на одно лицо.
Остаётся, сыграв в орлянку,
выбрать одно — и в конце концов
к нему спуститься.
А эту стремянку —
вон,
чтоб ни памяти, ни надежд,
ни нужды под людей рядиться,
ни украшений их и одежд,
в жабу канавную бы превратиться
и перекрыть канаву щитом:
в зелёной слизи
зелёной уродине,
незачем мне в состоянии том
будет и небо —
бездомная родина
звёзд, освещающих только себя
и предвещающих новую боль
тем, что старую теребят.
Звёзды изъели меня, как моль, —
преображённая в кожу да кости
жабьи,
я отрекусь от небес,
пусть они и шипят мне в злости:
Жаба же ты канавная! Бес!
…Но превращенье моё оставит
на всём несмываемую печать:
никто ничто
изменить не вправе,
всем дано
лишь одно —
роптать.
Пер. Нодар Джин
Вспоминаю тебя. По сути,
с прохождением дней,
с исходом истерии наших страстей,
вспоминаю лучше. По сути.
Я была неправа.
По вине не моей, не твоей. Не нашей.
Мы — частица толпы, существа
вихревого:
ни порядка в нём, ни согласия даже.
И суровей
нет проклятия, чем неизбывность сомнений.
Кучера мы
в катафалках, не к месту захоронений,
хуже, — к сраму
катящихся, сраму банальных свершений.
Без прищура на ярком свету нам жить мудрено.
И равно —
без простого того, от чего — только выть.
Наша нить, —
ей дано заманить нас в тоскливую клеть.
Но сидеть
мы хотим только в ней, и ключей не иметь.
А стареть — это громче осанну банальному петь.
И радеть о насущном мы вечно радеем, — оно
губит душу, но прочего нам не дано.
И давно катафалк по дороге скрипит, —
бытие наше нравится нам, как и быт.
Но порой наша жизнь предстаёт нам пошлятиной;
даже хуже — не нашею жизнью, а краденной, —
и приходится в эти мгновения вспомнить друг друга
и о том, что без нашей любви, этой формы недуга,
без ошибки, смотрящейся издали пугалом,
нашу жизнь уподобить осталось бы куполу,
ни одной не поддержанным в небе стеной.
Но иной над тобою и мной
образуется купол,
если новые нам суждено
ещё встретить года, —
не сплошною виною
малёванный грубо,
а неброской, сквозною
краской стыда.
И тогда, вот тогда по своей же воле мы
повернём на заезженную тропу,
не к друг к другу, нет, а к тому, что более
банально, — туда, где лежать в гробу.
Пер. Нодар Джин