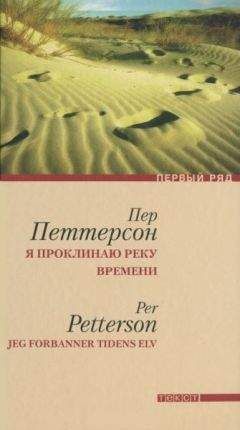2(3)
Я вспомнил, что я помню два лица.
Одно Пречистой Девы, нет, другое,
Другое, в нем рожденья и конца
Два глаза, колокольца под дугою.
Дугою тройки, радуги, венца
Смятенный ангел лестницей кривою
Сбегает вниз к душе моей, неся
Ей зернышко забвенья золотое
А то лицо… Могу ли я простить
Могу ли я, рыдая под крестами
Вновь из под палки крылья отпустить
И ветру дать нести их до конца.
Есть дважды два над здешними местами
Одно из них с усами наглеца
Одно из них с усами наглеца:
«Я вашу дочь того-с, люблю-с», со свистом
Показ на пальцах дырки и конца
Ус промокнув платком не суперчистым…
Когда у таракана два яйца
Он смотрится известным футболистом
Шестидесятых, с волею борца.
Бросками бурными срамящим Листа
До таракана, Ференц, как до звезд
Тебе с твоим сухим рояльным звуком.
Сто тараканов с клавиш соскочили
Мундиры вздели, строясь друг за другом,
Не масленица вышла, холохост
И с кожей щек оттенком в перец чили.
И с кожей щек, оттенком в перец чили
Души лицо опухло с оплеух
Звучат, как рэп, иглою на виниле
Ругательства, терзающие слух
По питерской, да вдоль по Пикадилли
Прошла моя душа одной из шлюх.
Ее катали на автомобиле,
Она поет, рот от спасибо сух,
Она душа, у ней тугая грудка,
Она голубка сизая во мне
Сидит в зрачке, как в форточке, и не
Взирая как тверская проститутка
На прошлое, прозрела через ад
Другое сборище, как снежный сад.
Другое сборище, как снежный сад.
Зимой из детской памяти глядится
Нырнувшей ветки шорох, снегопад,
Красивое словечко джиу-джитсу
И ветер звуком ледяных рулад
Эстонскую целует черепицу,
И вскоре поезд «Таллин – Ленинград»
Сейчас назад Эстония умчится
И я останусь со своей страной
Как Клодта мальчики в борьбе с конями
Гол над мертвенно-ледяной Фонтанкой
В чуть зримой ряби, под сырой сметанкой
До белых искр небес, любимых мной
Красивых черт, с брезгливыми тенями
Красивых черт, с брезгливыми тенями
Полны снов дюны, точно янтарем,
Веранда там роилась мотыльками,
Там люстры свет истек в дверной проем,
Там чей-то голос шумно хочет к маме,
Там в озера рассветный окоем
Гуашью льется солнечное пламя
Присядем, Ольга, на бревно вдвоем.
Сухое, спящее в песке прибрежном
Сосновых сучьев кожа дышит нежно,
Ты в памяти моей – кто ты? Похожа
На мать за тридцать. Ветр. Вдруг чья-то рожа
Из под воды все прячет рыбий взгляд,
Чтоб не подумали, что он Де Сад.
Чтоб не подумали, что он Де Сад,
Он притворился юношей-курсантом,
И в струнку позвонки, и ясный взгляд,
И весь таков, что бить пора курантам.
А если же без шуток, то он гад,
И выползень змеи под аксельбантом.
Все революции змею щадят,
Как ей сам дьявол удружил талантом,
Ему милы и царь, и враг царя,
Ему милы и Кушнер и Ягода,
И год весь с февраля до января,
Он ищет, хто таперя враг народа.
Быть блошкой суждено ему богами,
Но и маркизом быть над всеми нами.
Но и маркизом быть над всеми нами.
Кто как всегда продулся в свист в козла —
Игру всей жизни, злыми петухами
Всем нам кричать теперь из под стола.
Петр на воде и Моцарт в птичьем гаме,
Услышат нас, и бросив вдруг дела
Скакнут под стол, чтоб вечно быть там с нами.
Любовь? Что ж, умерла, так умерла,
Мы реквием ей сложим. Мы, пока
Кричим в три горла, в голове иное,
Холоп, молчи, скрывайся и таи.
Но вечно славься небо голубое.
Бог сущ, хоть сотворила нас тоска
Скотами рынка, преступленья чьи.
Скотами рынка, преступленья чьи
Чьи хитрости и скользкие уловки
Чьи пальцы новой полные сноровки
Считают и чужие и свои
Для дела, злого дядюшки, семьи,
Бумажки – после быстрой сортировки,
Бумажки эти право, не в крови,
А руки все же моются, плутовки,
Всем сочетаньям букв цена одна
Их не пересчитать Прочь неба клей
У них поди ты выжми – клей хрустальный,
Иль человеком прочность создана,
Чтобы дела давно минувших дней
Расследовать устало и печально.
Расследовать устало и печально.
Глубины слов, точно глубины вод
На берегу своей души, причаленный
Боясь ступить, качнул я веры плот.
Сверкнула чайка в небе. Окончательно
Я осознал свой невозможный ход.
Толчок шеста, и шелест несказанный
И голос мой мне чужд как шелест звезд,
Как шелест звезд, я, повторясь в сонете,
Сонет разрушил, словно гладь души,
Которая скорбя, волнуясь в свете
Уж сказанного все меняет вид,
А быть с тобой, застыв в густой тиши —
Долг юноши, защитника любви.
Долг юноши, защитника любви.
Точить язык до остроты кинжала,
И принимать порой смиренный вид,
Чтобы жена с другим не убежала.
Сама к любви ты рифму назови,
ведь ты, я слышал, гордо у причала
Стихи любви с платком вослед кричала,
Высвобождая душу. C'est la vie
Но наша vie, коль не согнётся выя
Перед беспечным небом, где златой
Вздох дня летит, то ночью око Вия
Нас взглядом с тенью обручит пустой,
Ударив в душу, словно в наковальню,
И на дубинке оттиск обручально.
И на дубинке оттиск обручально
(Вот предо мною кладбище и храм,
Чьё бедное убранство не сусально,
А просто – Ардов, Вас я вижу там;
Моя невеста в платье невенчальном
Велела недоверчивым глазам
Быть робкими, губами машинально
Шептала что-то, что – не помню сам.
Куда за тридцать ей – с фатой прозрачной
Пылать от страха, счастья и стыда
«Беру ли я? Беру. Боюсь? О, да!» —
Но не своею свадьбою – мента
Сомкну я губы тесно, ново)брачно
Го вжат кольца, свистит дубинка та…
Го вжат кольца, свистит дубинка та…
Поговорим о «го» из прошлой строчки
«Го» – это выдох звука изо рта,
Когда летит в затылок или в почки
Столичного салюта высота
В зеницах глаз-то белые цветочки,
А ягодки потом прут изо рта,
И пусто в голове, как в винной бочке
Стрельцы, опричники и мусора
Мне симпатичны тем, что без боязни,
Обрублены с утра стрелецкой казни
Обрубленные их тела Петра
На бережку воздвигли, как с куста,
И называли, Оля, лимита.
И называли, Оля, лимита.
И медный всадник за меня вступился,
«Ты затворил калитку, Калита,
Открой её» – сказал, и я влюбился
В твою Москву – о, нет, не в паспорта,
А в женщину, чей образ мне явился,
И отворил калитку, и предстал,
Я, Оля, в первый раз тогда напился.
С тех пор я пил (был пьющий человек)
Возможно, что сломали неудачи —
Ведь мог же и удар по голове
Мне психику расстроить, не иначе.
Теперь хочу, чтоб все меня лечили,
Меня ведь здесь, в метро дубинкой били.
Меня ведь здесь, в метро дубинкой били.
Я вспомнил, что я помню два лица —
Одно из них – с усами наглеца,
И с кожей щек оттенком в перец чили,
Другое – сборище как снежный сад
Красивых черт с брезгливыми тенями,
Чтоб не подумалось, что он Де Сад,
Но и маркизом быть над всеми нами,
Скотами рынка, преступленья чьи
Расследовать устало и печально —
Долг юноши, защитника любви,
И на дубинке оттиск обручально-
го вжат кольца. Свистит дубинка та,
И называли, Оля, – лимита
И называли, Оля, лимита.
Эх, стань я на секунду Кончаловский,
Или Михалков – брысь бы от винта…
Мне, Ольга, жаль, я Ольга, не таковский,
Я брёл, я грустно брёл, как сирота
По многоликой улице московской,
Бредя, напоминал себе кота,
Но до чего же с мордой философской
Вокруг меня давали калачи,
Их зубками девчёночки кусали,
Шли, показавши ножки мимоходом
И так я жил здесь девять лет – стучи
По дереву, Оль, мы не выбирали
Отцов, прославленных известным ходом.
Отцов, прославленных известным ходом.
Ботвиника – ты что? – А я бы взял
А кто бы отказался – хоть уродом —
Быть сыном не слона, а, блин, ферзя.
Чё не ходить, коль клетки мажут мёдом,
И мата не слыхать, чай не вокзал —
Коней бери, бери слонов за моду —
И в пешках я б себе не отказал.
И я вздыхал, ледок сбивая ломкий —
И вдруг в подмётки пробралась вода,
И было о Ботвинике забыто.
Привет, разбитое моё корыто,
Ты принесло с собой пустые ломки.
Истории надменные потомки… м-да.
Истории надменные потомки, м-да
Мне надоели, я хочу гулять,
Уйду из дома, скрывшись в кинопленке, м-да
Что бы где я глядеть и не понять
Мне душно словно в газовой колонке, м-да
И духоту мне не на что сменять
Я сам бы от себя побыл в сторонке, м-да
Но надоело злоупотреблять.
Какая скука: летняя жара,
Как медленно асфальт под пешеходом
Течет. Как мчась шипит под БМВ,
Клубясь, об угол брызжа мошкара,
Брызг электрических жила в Москве.
И улыбнулся шанс им стать народом.