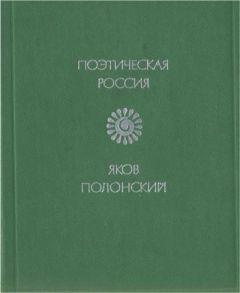Миша посмеивался над дядей.
-- Что делать, братец мой,-- говорил он,-- свинья-то он свинья! Из свиней свинья... ну, да что же делать!..
Я дал себе слово никогда не ездить в деревню к дяде Миши Кублицкого.
Если бы мне суждено было быть сатириком, я бы из моей поездки вынес немало наблюдений и подробности не ускользнули бы от моего внимания. Но я был слишком, так сказать, субъективен для того, чтобы останавливаться на темных или грязных сторонах действительности. Только то, что влекло меня, скорее всего запечатлевалось в моей, к сожалению, односторонней памяти. Какие-нибудь жонглеры -- тех я помню лучше, чем тысячи таких нравственных уродов, каким показался мне Мишин дядя и каких немало встречал я на жизненном пути своем.
ПРИМЕЧАНИЯ
Мы предлагаем читателю воспоминания Полонского в том порядке, в каком отражены в них этапы его долгой жизни -- от детства к гимназическим и университетским годам и, наконец, к летним месяцам 1881 года, когда поэт жил в имении И. С. Тургенева Спасское-Лутовиново и записал свои беседы с ним. В русской печати конца XIX века они появлялись в ином порядке -- в том, в каком были написаны. Самые ранние публикуемые мемуары -- "И. С. Тургенев у себя в его последний приезд на родину" -- относятся к последнему периоду жизни и самого поэта, вот почему ими завершается раздел воспоминаний, да и книга в целом.
Воспоминаний о времени, протекшем после университетских лет до 1881 года, когда Полонский гостил у Тургенева, Полонский не публиковал. Этот пропуск отчасти восполнен в неопубликованных мемуарах, сохранившихся в архиве Полонского ("Кой-что из моего былого" // Рукописный отдел ИРЛИ АН СССР), в публикации отрывков из воспоминаний (Голос минувшего. 1919. No 1), а также в его дневнике, частично напечатанном в том же журнале (1918. No 1--4; полностью дневник с записями 1856--1860 годов хранится в ЦГАЛИ СССР). Интерес представляют также напечатанные в "Голосе минувшего" (1917. No 11--12) воспоминания А. О. Смирновой-Россет, когда-то фрейлины, "черноокой Росети", которой посвящали свои стихи и Пушкин, и Жуковский, и Вяземский,-- воспоминания эти записаны Полонским во время бесед с А. О. Смирновой, в семье которой он служил гувернером в 1856--1857 годах. Мемуарный материал есть также в статье Полонского "К биографии Н. В. Успенского" (Исторический вестник. 1898. No 4) и -- в меньшей степени -- в статье "Л. А. Мей как человек и писатель" (Русский вестник. 1896. No 9).
Старина и мое детство
Воспоминания опубликованы в "Русском вестнике" (1890, NoNo 2, 6 и 1891, No 5). Воспоминания эти написаны по просьбе редактора "Русского вестника" Ф. Н. Берга. "...Сознаюсь, как трудно даже прозой все это описывать, не впадая в фальшивую ноту",-- писал Полонский А. В. Жиркевичу 17 мая 1890 года (Письма Я. П. Полонского к А. В. Жиркевичу / Публикация И. А. Покровской // Русская литература. 1970. No 2. С. 130).
Как и в художественной прозе, Полонский-мемуарист в психологических наблюдениях широко пользуется литературными цитатами, явными и скрытыми, особенно из произведений любимого им Пушкина.
"Иных уж нет, а те далече..." -- строка из восьмой главы "Евгения Онегина".
"Или разыгранный Фрейшиц / Перстами робких учениц..." -- строки из третьей главы "Евгения Онегина".
Обращаясь к описанию своего детства, проведенного в провинциальном городе крепостнической России, Полонский вспоминает Салтыкова (Щедрина), его "рассказы", написанные в "сатирическом тоне", в которых были отражены правы крепостной эпохи -- здесь он имеет в. виду в основном "Пошехонскую старину" (1887--1889). Само слово "старина" в заглавии воспоминаний Полонского, возможно, навеяно этим произведением.
Таинственные узоры, которые грезились поэту в детские годы при ночной темноте, сравниваются с "глазками и лапками" на материи, причем Полонский прямо ссылается на речь героини "Мертвых душ" Гоголя (у Гоголя, в IX главе, это "просто приятная дама").
Описывая дом своей бабушки А. В. Кафтыревой, жившей при Екатерине II (именно тогда, по указу 1778 года, город Переяславль-Рязанский стал называться Рязанью), Полонский называет писателей, романы которых горой лежали на ее комоде. В их числе были: Анна Радклиф (1764--1823), писавшая в жанре "готического романа", построенного на раскрытии "ужасной тайны"; Ф.-Г. Дюкре-Дюменель (1761--1819), автор нравоучительных сентиментальных повестей и романов; А. Лафонтен (1759--1831), плодовитый романист, автор мелодраматических произведений на "семейные" сюжеты (именно его имел в виду Пушкин в главе четвертой "Евгения Онегина", уподобляя домашнюю жизнь "ряду утомительных картин" и роману "во вкусе Лафонтена"); мадам Жанлис (М.-Ф. Дюкре де Сент-Обен, 1746--1830) -- очень популярная писательница, автор увлекательных романов из светской жизни.
При описании дворовых мемуарист вспоминает "типы -- вроде гоголевского Селифана, Осипа, Петрушки". Это кучер Селифан и лакей Чичикова Петрушка в "Мертвых душах", лакей Хлестакова Осип в "Ревизоре".
Полонский сохранил в памяти первые прочитанные им книги. Из менее известных произведений это комедии П. А. Плавильщикова (1760--1830); волшебная сказка "Русалка"; стихи князя И. М. Долгорукого (1764--1823, в тексте у Полонского: Долгоруков, надо: Долгорукий) , подражавшего Карамзину; сказки И. И. Дмитриева (1760--1837) -- очевидно, "Филемон и Бавкида", "Модная жена", "Воздушные башни" (вошли в Сочинения И. И. Дмитриева. Т. 2. М., 1810).
(Начало грамотности и гимназия)
I
Год восшествия на престол императора Николая I был чуть ли не первым годом, когда я стал учиться грамоте. Купили мне азбуку с лубочными картинками и, вероятно, в числе учеников, заканчивающих ученье свое в Рязанской семинарии, нашли учителя.
К моему немалому успокоению, первый учитель мой, Иван Васильевич Волков, был нрава веселого, очень ласковый и, сколько мне помнится, начал с того, что притворно удивился, как это я, такой маленький мальчуган, знаю уже названия букв: "Аз", "Буки", "Веди", "Глаголь", "Добро" и т. д.
Я скоро перестал его бояться и так полюбил, что с нетерпением дожидался той минуты, когда он появится. Уроки наши происходили в гостиной. Я сидел на диване, а Иван Васильевич возле меня на краю большого овального стола. Иногда тут присутствовала и мать моя, очень довольная моими успехами и моею мало-помалу развивающеюся бойкостью.
Классной комнаты для детей, я думаю, не было во всей Рязани, даже в богатых домах. Но почему я начал учиться не в детской? А потому, полагаю, что в детскую надо было проходить или через заднее крыльцо, или через спальню моей матери. Допустить то или другое для юного семинариста, ставшего моим наставником, было не в нравах тогдашнего времени.
О преподавании азбуки по звуковому методу тогда еще и вопроса не было. Учили по старине. Старинное название букв, ныне всеми забытое, может быть, имело в себе некоторую силу действовать на воображение. Сужу по себе и, может быть, ошибаюсь. Для меня, шестилетнего ребенка, каждая буква была чем-то живым, выхва ченным из жизни.
Стоять "Фертом" (ф) значило стоять подбоченившись. Поставить на странице большой "Херъ" (х) значило ее похерить. Чтобы был "Покой" (п), надо сверху накрыться; а иногда "Покой" (п) казался мне чем-то вроде ворот или дверки с перекладинкой наверху, тогда как "Нашъ" (н) был перегорожен по самой серединке, чтобы к нашим никто пройти не мог.
Современная звуковая метода тем хороша, что действует на ум, каждое слово разлагает на гласные и согласные и указывает на их разницу в произношении. А, б, в, г... гораздо проще и, так сказать, рациональнее, чем Аз, Буки, Веди... но современная метода уже ни одною лишнею поговоркой не уснастит русской народной речи. "Это еще Буки", "Он Мыслете пишет", "Ижица -- розга близится" и т. п.
Если б Пушкин не учился так же, как я, ему и в голову не могло бы прийти сравнение виселицы с Глаголем. А в моем "Кузнечике":
Знал он "Твердо" (т) "Слово" (с) и не верил в "Буки" (б) прямо вытекает из старинного произношения русских букв, и всякий русский поймет эту фразу, даже и не подозревая, что это каламбур.
Но всему свое время, и там, где старое преподавание не сумело отстоять себя, не следует к нему возвращаться, а там, где оно еще крепко держится, не следует порицать его.
Первые стихи, которые я затвердил наизусть с восторгом и наслаждением и потом долго забыть не мог, были стишки, помещенные в конце моей азбуки:
Хоть весною и тепленько,
А зимою холодненько,
Но и в стуже
Нам не хуже,
В зимний холод
Всякий молод.
Это были в то время стишки такие же неизбежные для каждой азбуки, как и
Науки юношей питают,
Отраду в старость подают.
Затем помню себя уже на новой квартире (в доме купца Гордеева на Воскресенской улице) и нового учителя -- плотного, долбоносого семинариста с серыми, выпуклыми глазами, которые всякий раз, когда он краснел, почему-то щурились. Он учил меня и подраставшего брата грамматике, арифметике и священной истории. Мы уже и склоняли, и спрягали, и делали уже задачи на первые четыре правила. Прежний же учитель мой Иван Васильевич, вышедши из семинарии, поступил на службу в Рязанскую полицию, и я не раз потом встречал его в форме квартального надзирателя. Новый учитель, если не ошибаюсь, готовился быть дьяконом и, странное дело -- он, кажется, был не глуп, а все-таки однажды позволил нам ввести его в обман, и чем бы вы думали? -- гортанным гуденьем, которое как-то умели мы делать, не раскрывая рта и не показывая ни малейшего вида, что это делаем мы, подражая звону или гуденью далекого колокола. Он вытянулся и стал прислушиваться. "Я говею,-- сказал он,-- мне пора... Никак к часам звонят". И ушел раньше времени, к немалому нашему удовольствию. Это я живо помню, так как я и до сих пор не могу понять, как можно было так ловко горлом подражать далекому гуденью благовеста и как можно было не догадываться, что это наша хитрость, а вовсе не благовест. Этот учитель -- прототип моего Глаголевского (в романе "Признания Чалыгина"). Не раз, в отсутствие моей матери, рассказывал он нашим нянькам разные легенды о святых, иногда приносил нам стихи про Венеру, Амура и прочих богов, шествующих куда-то в виде маскарадной процессии, и стихи про сатану, ад и проч.-- ужасающие диковины.