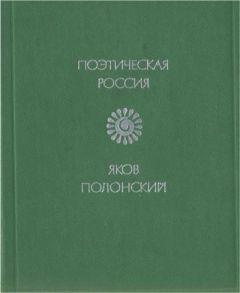Эта Софи была так добра, что иногда позволяла мне отворять свой шкаф и рыться в нем. Что было на верхних полках этого шкафа -- я не помню; но на двух нижних помещались ее тетрадки и книги, все больше учебные; были, однако, и такие, которые привлекали меня своими картинками; так, между ними помню я большую, в четверть листа (in quarto), книгу, под заглавием "Животный мир, или Картины природы". Не помню заглавия, но до сих пор помню какого-то извивающегося змея, окрашенного в зеленовато-желтый цвет; да еще помню французскую книжку с повестью для детей под заглавием "Croque-Mitaine {"Пугало" (фр.).}". Этот Крок-Митень, человек очень злой и безжалостный к детям, которых отдавали ему на исправление, сильно тревожил мое ребяческое воображение. Однажды, кажется, в отсутствие Софи, я раскрыл ее шкапик, присел к полу и, перебирая книги, нашел тетрадку, небольшую, в восьмую долю листа, рукописную, с оглавлением "Братья-разбойники". Я стал читать:
Не стая воронов слеталась
На груды тлеющих костей,
. . . . . . . . . . . . .
Удалых шайка собиралась и пр.
Пораженный увлекательностью и новизной стихов, я все забыл. Это было мое первое знакомство с Пушкиным. Пушкин в те далекие годы считался поэтом не вполне приличным. Молодежи в руки не давали стихов его. Но запрещенный плод казался дороже, как бы оправдывая стихи самого Пушкина:
Запретный плод нам подавай,
А без того нам рай не в рай.
По рукам гимназистов ходило немало рукописных поэм Пушкина. Так, не в печати, а в рукописных тетрадках впервые удалось мне прочесть и "Графа Нулина", и "Евгения Онегина", и не ранее, как я уже сам был гимназистом, и нередко в классах читал посторонние книги, когда на черной доске чертили мелом задачу или когда был я уверен, что меня уже не вызовут.
Припоминая об участии молоденькой Софи в моих французских уроках, не могу не сказать, чем все это кончилось.
Однажды я сидел в зале за уроком. Александра Петровна Тюрберт только что успела при мне причесать свои густые волнистые волосы, сидя у окна перед складным зеркалом (любой дьякон позавидовал бы изобилию темных волос ее), как вдруг в залу вошел с озабоченной миной директор (Николай Николаевич Семенов, недавно еще вступивший в свою должность, человек еще холостой и не старый), вошел и, проговорив несколько французских фраз, сказал ей, что желает говорить с нею наедине.
Александра Петровна встала и, поморщившись, пошла с ним в среднюю комнату, которая отделяла залу от комнатки ее дочери.
Что они говорили, конечно, я не слыхал, да и не слушал. Как вдруг послышался вопль -- вопль, который испугал меня. Я тотчас же догадался, что Софи вылетела из своей комнаты, упала перед ними на колена и стала рыдать.
Что она бормотала сквозь слезы -- не знаю. Помню только, что мать стала за что-то стыдить и упрекать ее, но при этом голос ее был тих, и вообще она была гораздо сдержаннее, чем это бывало в такие минуты, когда она гневалась...
Кажется мне, что в это утро я кое-как дописал свои спряжения, что за мной пришла Матрена и я ушел домой без всякой отметки...
Затем я около недели не ходил на урок французского языка. Не помню, кто дал нам знать, что Софи опасно больна и что болезнь ее заразительна.
Говорили, что Софи на другой же день после описанной мною сцены заболела горячкой. Через неделю ее не стало -- она умерла в беспамятстве.
Какая душевная буря так внезапно и так страшно потрясла ее?
Я не был на ее похоронах; но весь этот день тосковал, не находил себе места.
Когда я подрос, я всячески старался объяснить себе, что бы такое мог говорить директор моей учительнице. Думал, что милая Софи, вероятно, была в кого-нибудь влюблена, или что директор застал ее в саду на свидании,-- думал, что ее переписка была перехвачена и он счел своею обязанностью предупредить мать. Был даже слух, что директор сам был неравнодушен к Софи и намерен был за нее свататься. Но, конечно, все это только догадки. Я привожу только факт, который оставил на мне сильное впечатление.
II
Мне, я думаю, было не более 11 лет, когда умерла мать моя. Здесь некстати описывать обстоятельства, сопровождавшие смерть ее. Я взялся для педагогического журнала "Русская Школа" рассказать только мои школьные годы или мои личные воспоминания о тогдашних преподавателях. Сожалею, что при этом память иногда изменяет мне, в особенности годы и имена не даются ей.
После смерти моей матери отец мой собирался в дальний путь на службу и отдал меня в гимназию. Директор H. H. Семенов единолично экзаменовал меня, и плохо сделанная задача с десятичными числами не помешала ему принять меня; ни о каких баллах или отметках даже и речи не было. Вскоре после отъезда отца моего я, братья и сестра переехали в дом моих родных теток Кафтыревых.
Император Николай I, проезжая через Рязань, посетил гимназию в ее старом помещении. Говорили, что при встрече с директором он воскликнул: "Ба! и ты, Семенов, попал в ученые!.." Я помню, это было или поздно осенью, или зимой. Меня разбудили утром, в седьмом часу, при свечах я одевался по форме, и еще не рассвело, когда я прибежал в гимназию. Государь приехал к нам рано, кажется, не позднее 10 часов. В окно глядело тусклое утро, в классах было пасмурно.
Вид молодого государя, на приветствие которого мы отвечали: "Здравия желаем, Ваше Императорское Величество!" -- произвел на меня глубокое впечатление. Точно полубог, что-то вроде Марса и Аполлона, олицетворение красоты и могущества, прошло перед моими глазами.
Помню, что мы не сбегали вниз на лестницу провожать его, а оставались на своих местах, сидели смирно и не шумели до тех пор, пока крики "ура!" на улице не подсказали нам, что государь сел в экипаж и уехал.
Я лучше начинаю помнить с тех пор, когда гимназия наша, уже семиклассная, перекочевала в дом, пожертвованный ей Н. Г. Рюминым, сыном рязанского откупщика, который, вероятно, добивался и добился звания попечителя Рязанской гимназии.
Но прежде чем приступлю я к очерку моих наставников, скажу несколько слов о тогдашних порядках в гимназии.
Утром классы начинались с 9 часов и кончались в полдень. После обеда с 2 часов и до 5-ти. Далеко по городу разносился призывный звонок со двора гимназии; был еще и другой звонок в виде колокольчика из-под дуги, в который звонил сторож, прохаживаясь между классами в начале и конце каждого урока (то же, что и теперь). В старой гимназии перед учителем стоял столик на небольшом возвышении; в новой гимназии -- кафедра. В каждом классе был надзиратель (из учеников). Он сидел первым на первой скамье; на следующих скамьях до самой задней стены сидели тоже первыми с правой стороны помощники надзирателя. Все они были выбираемы или самим директором, или инспектором, и выбор этот вовсе не зависел от баллов или от успехов. Так, у того стола, где я очутился, помощником был Кильхен (очень красивый мальчик) только потому, что директор знал семью его и, так сказать, был уверен в его благовоспитанности.
Как надзиратель, так и его помощники обязаны были наблюдать за своими товарищами в то время, когда ожидался учитель. Нарушающих тишину и порядок они должны были записывать, и эти рапортички подавать или вошедшему учителю, или инспектору. Иногда на эти рапортички не обращалось никакого внимания, иногда инспектор вызывал виноватых, читал им нотацию и ставил в угол.
Каждые полгода совершалась пересадка по счету баллов; но эта пересадка не касалась ни надзирателя, ни его помощников, хотя бы они по баллам своим и были понижены, они оставались на тех же местах.
Во время класса тот, кому нужно было выйти, поднимал руку и, получивши дозволение, бежал на задний двор. Иногда в трескучий двадцатипятиградусный мороз бегали мы туда без шинелей и возвращались как ни в чем не бывало. Ретирадные места не отличались своею опрятностью, и все дощатые стены их были покрыты разными надписями -- мелом, углем и чем попало -- самого скабрезного свойства. Никто никогда туда не заходил; только раз гимназическое начальство пришло в великий конфуз, когда кто-то из прибывших ревизоров пожелал освидетельствовать и это, всеми заброшенное, из барочных досок сколоченное помещение. Нечего и говорить о том, что о теперешних ватерклозетах во всей не только Рязани, но и в Москве никто не имел ни малейшего понятия.
Надзиратель самого старшего, седьмого, класса назывался уже старшиной и был, так сказать, надзирателем над учениками всей гимназии. Помню, как в рекреацию проходил он по всем классам, а иногда и не один, а со своими ассистентами, которые шли за ним, как адъютанты за генералом. Как нельзя лучше я помню повелительное лицо, поступь и осанку одного старшины К., перед которым мы расступались, прекращали драку и усаживались на места... Боже мой! какое это было лицо!.. Это был полководец, чем-то вроде Наполеона. Я тогда так и воображал себе, что он будет великим человеком. Но К. обманул мои надежды: он, как кажется, всю жизнь свою провел в московском клубе и всю душу свою отдал картам. Так ли ему повиновались тузы, короли и валеты, как мы -- для меня покрыто мраком неизвестности.