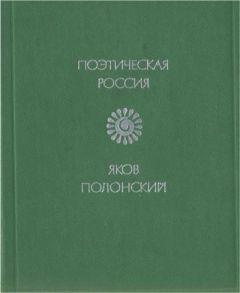Первые стихи, которые я затвердил наизусть с восторгом и наслаждением и потом долго забыть не мог, были стишки, помещенные в конце моей азбуки:
Хоть весною и тепленько,
А зимою холодненько,
Но и в стуже
Нам не хуже,
В зимний холод
Всякий молод.
Это были в то время стишки такие же неизбежные для каждой азбуки, как и
Науки юношей питают,
Отраду в старость подают.
Затем помню себя уже на новой квартире (в доме купца Гордеева на Воскресенской улице) и нового учителя -- плотного, долбоносого семинариста с серыми, выпуклыми глазами, которые всякий раз, когда он краснел, почему-то щурились. Он учил меня и подраставшего брата грамматике, арифметике и священной истории. Мы уже и склоняли, и спрягали, и делали уже задачи на первые четыре правила. Прежний же учитель мой Иван Васильевич, вышедши из семинарии, поступил на службу в Рязанскую полицию, и я не раз потом встречал его в форме квартального надзирателя. Новый учитель, если не ошибаюсь, готовился быть дьяконом и, странное дело -- он, кажется, был не глуп, а все-таки однажды позволил нам ввести его в обман, и чем бы вы думали? -- гортанным гуденьем, которое как-то умели мы делать, не раскрывая рта и не показывая ни малейшего вида, что это делаем мы, подражая звону или гуденью далекого колокола. Он вытянулся и стал прислушиваться. "Я говею,-- сказал он,-- мне пора... Никак к часам звонят". И ушел раньше времени, к немалому нашему удовольствию. Это я живо помню, так как я и до сих пор не могу понять, как можно было так ловко горлом подражать далекому гуденью благовеста и как можно было не догадываться, что это наша хитрость, а вовсе не благовест. Этот учитель -- прототип моего Глаголевского (в романе "Признания Чалыгина"). Не раз, в отсутствие моей матери, рассказывал он нашим нянькам разные легенды о святых, иногда приносил нам стихи про Венеру, Амура и прочих богов, шествующих куда-то в виде маскарадной процессии, и стихи про сатану, ад и проч.-- ужасающие диковины.
Все это не без впечатлений проходило по душе моей. В ранние годы моего детства я уже собирался бежать в пустыню, вырыть пещеру и в ней спасаться. В особенности мне приятно было воображать себя летящим в Иерусалим верхом на черте. "Господи!--думал я,-- как это будет поразительно, если я вдруг войду, и все, в особенности няня, увидят вокруг головы моей сияние!" Помнится мне, иногда по вечерам я забирался в угол, заставлял себя стульями и, спрятавшись ото всех, молился.
Учиться по-французски я начал еще при матери. Учить меня взялась жена учителя французского языка при тогдашней четырехклассной Рязанской гимназии, Александра Петровна Тюрберт.
Я сначала был ее единственным учеником, потом еще было двое, из которых один был по фамилии Ржевский. Все были приходящие. В то время я выходил из дому не иначе, как сопровождаемый нянькой Матреной, моей неразлучной спутницей по пустынным улицам г. Рязани, редко оглашаемым стуком экипажей. Иногда, например, вдоль улицы видишь поутру два-три человека, булочника да еще кучку мальчишек, бегущих в приходское училище,-- и затем ни души.
Рязанская гимназия в это время была еще на старом месте, на Астраханской улице, близ моста. Это было одним из самых видных каменных зданий в Рязани.
При гимназии были два двора: один большой квадратный двор, другой -- задний, где я помню только какие-то сараи и ретирадные места. При входе на двор, направо, был задний фасад гимназии; прямо через двор двухэтажный деревянный флигель, где жил директор; налево длинная изба для сторожей, и в самом углу по диагонали стоял небольшой домик с двумя низенькими крыльцами под навесом.
И этот домик мне особенно памятен. С одной стороны его, вдоль окон, шел небольшой цветник, а с другой (за квартирой учителя Ставрова) шел обрыв или холмистый берег, спускающийся к Лыбеди. Тут были разбросаны дорожки, кусты, клумбы и даже, как кажется, была небольшая беседка. Мне редко удавалось заходить в этот садик, и при этом я должен добавить, что и садик, и гористый берег, и все, что я видел, казалось мне в сильно преувеличенном виде: обширнее, выше, привольнее, чем на самом деле.
К Александре Петровне Тюрберт я являлся по утрам и оставался при ней около двух часов, с 9 утра до 11, иногда до 12 часов.
Метод учения был самый простой и бесхитростный. Выучили читать, и тотчас же стали задавать несколько французских слов для домашнего зазубривания.
Тут впервые я пришел в отчаяние от своей памяти.
Все мною читанное по-русски или слышанное: сказки и былины -- я, бывало, передавал с таким одушевлением и такими подробностями моей матери, что удивлял ее. Я знал уже наизусть множество стихов, по большей части старых русских романсов и песен, записанных рукой моей матери. У нее были целые тома этих рукописных сборников, этих народных песен и тогдашних модных романсов вроде "Звук унылый фортепьяно", "Кинареечка любезна", "Я в пустыню удаляюсь", "Среди долины ровный" и проч. -- словом, весь репертуар этих, ныне забытых, песен, вся эта салонная старина с детства была уже известна мне и -- можете себе вообразить! -- очень мне нравилась.
Но вот задали мне выучить три французских слова: Dieu, Dieu le fils и Dieu le Saint Esprit {Бог, Бог-Сын... Бог-Дух Святой (фр.).}, и эти три слова долбил я весь день, весь вечер и часть ночи, лежа в постели рядом с матерью. В особенности последнее слово казалось мне совершенно неодолимым, так как беспрестанно ускользало из моей памяти.
Всякому способному к языкам мальчику все это покажется смешно и невероятно. Но это было именно так, как я пишу, ибо я вовсе не намерен хвастаться тем, чего не было. При первой же пробе изучить иностранные языки я оказался бездарнейшим из бездарнейших и должен в этом сознаться. Конечно, у меня хватило настолько самолюбия и настойчивости, что кладовая для иностранных слов в мозгу моем значительно раздвинулась. Но, как бы то ни было, я никогда без некоторой зависти не мог слышать, как иным стоит только раз прочесть 30--40 слов на каком хотите языке, и все они сразу укладываются в мозгу и остаются там навсегда к услугам владельца.
Упоминать же о степени моих способностей необходимо потому, что я описываю годы своего ученья.
Ученье по-французски состояло сначала в заучивании слов, потом разговоров, в диктовке и писании французских спряжений на заданные глаголы. Никаких объяснений -- ни этимологических, ни синтаксических -- не было. Все это я сам должен был узнать из практики. Практика же постоянно была одна и та же: диалоги, диктовка и писание спряжений по всем наклонениям и временам. За все это ставились отметки в небольшой тетрадке в осьмушку:
-- Parfaitement bien, tres bien, bien, assez bien, mal и tres mal {Превосходно, очень хорошо, хорошо, удовлетворительно, плохо, очень плохо (фр.).}.
Теперь перейду к домашней характеристике. Помню, что, когда я в первый раз вернулся с урока домой, мать подарила мне деревянное яйцо, облитое воском и облепленное разноцветным бисером... Боже мой! Какою драгоценностью показался мне этот подарок! Это было в глазах моих таким сокровищем, что я долго не знал, куда мне и положить его, где прятать и как сохранять!
Учить уроки помогала мне мать: она знала по-французски, хотя и не говорила, по той простой причине, что и говорить было не с кем. Вообще в тогдашней Рязани я не слыхал вокруг себя -- ни дома, ни у родных, ни в гостях -- ни немецкого, ни французского говора. Даже у немца-доктора Григориуса в семье говорили только по-русски. Так тогдашняя Рязань отстала от моды и так в некотором отношении была непохожа на наши столичные города. Конечно, это продолжалось недолго. Воспитанницы Смольного монастыря, возвращаясь в свои рязанские семьи, скоро принесли с собой французский язык, а затем кое-где появилась и рождественская елка. По крайней мере, до 6-го класса гимназии я не видал ни одной подобной елки, даже понятия не имел о том, что это за штука.
Мадам Тюрберт была русская по происхождению. Это была женщина красивая, строгая, очень домовитая и всю семью свою держала в страхе и повиновении.
У нее были два сына и дочь, Софья Антоновна. Сыновья Александр и Петр уже были гимназистами. Дочь шестнадцати или семнадцати лет была очень милая, очень добрая бледнолицая девушка с тонким, несколько французским профилем и карими глазами. Это не мешало почтенной моей учительнице иногда таскать ее за косу. Сыновья тоже ее побаивались. Я тоже ликовал душой, когда Александра Петровна почему-либо не могла со мной заниматься и поручала своей Софи выслушать мой урок, продиктовать или задать спряжение. Это необыкновенное счастье случалось со мною чаще всего накануне больших праздников, когда Александра Петровна отправлялась в баню или уходила в кухню печь куличи к пасхе или пряники к рождеству. Я по-детски очень любил эту Софи и уж знал наперед, что у нее не хватит духу поставить мне дурную отметку в журнале или пожаловаться на меня своей матери.