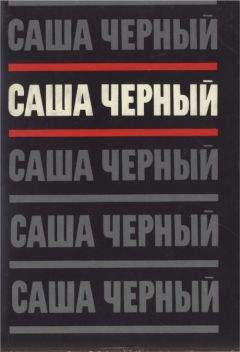В Саксонской Швейцарии*
С фрейлен Нелли и мистером Гарри
Мы покинули мутный Берлин.
Весь окутанный облаком гари,
Поезд мчался средь тусклых равнин.
Очертели нам плоские дали…
Но вдоль Эльбы за Дрезденом вдруг
Лента скал средь туманной вуали
Потянулась гирляндой на юг.
Мы приехали в тихую Шмильку,
Деревушку средь складок двух гор.
Женский труп, вдвинув плечиком шпильку,
Нам принес бутербродов бугор.
Мы сидели в отеле «Zur Mühle»[2]
Пел ручей на семьсот голосов,
Печь сверкала, как солнце в июле,
Домовой куковал из часов.
Ночью было мучительно трудно:
Под перину прокрался мороз!
В щель балкона тоскливо и нудно
Рявкал ветер, как пьяный матрос…
Коченели бездомные пятки,
Примерзали к подушкам виски,
На рубашке застыли все складки,
И живот замирал от тоски.
Утром в стекла ударило солнце.
Мутно-желтый и заспанный диск
Был скорее похож на японца,
Но в восторге мы подняли писк.
Скалы к окнам сбегались зигзагом,
Расползался клочками туман.
Под балконом за мшистым оврагом
Помахал нам платком старикан.
Если вы не взбирались на скалы,—
Как вам каменный бунт описать?..
Вниз сбегают зубцами провалы,
К небу тянется хвойная рать…
Шаг за шагом, цепляясь за корни,
Ноги вихрем вздымают труху.
Только елка трясется на дерне,
Только эхо грохочет вверху…
Ах, как сладко дышать на вершине!
За холмами сквозят города,
Даль уходит в провал бледно-синий,
Над грядою взбегает гряда.
В глубине — хвост извилистой Эльбы
И козлов одичалых гурьба…
Эх, пальнуть всем втроем в эту цель бы,—
Да из палок какая ж стрельба!
День за днем — пролетели орлицей,
Укатило за лес Рождество…
У плененных берлинской столицей
Так случайно с природой родство…
Женский труп, украшенье «Zur Mühle»,
Подал нам сногсшибательный счет:
Затаивши дыханье, взглянули
И раскрыли беспомощно рот.
На пароме мы плыли в тумане.
Цвел огнями вокзальный фасад,
Пар над Эльбой клубился, как в бане,
Блок, визжа, разбудил всех наяд.
Мутный месяц моргал из-за ели…
Хорошо ему, черту, моргать!
Ни за стол, ни за стены в отеле
Ведь нельзя с него шкуру содрать…
Влезли в поезд — в туристскую кашу,
Дым сигарный вцепился в зрачки.
Подпирая чужую мамашу,
В коридоре считал я толчки.
Чемоданы барахтались в сетке.
Вспыхнул сизый, чахоточный газ.
За окошком фабричные клетки
Заструились мильонами глаз…
С девчонками Тосей и Инной
В сиреневый утренний час
Мы вырыли в пляже пустынном
Кривой и глубокий баркас.
Борта из песчаного крема.
На скамьях пестрели кремни.
Из ракушек гордое «Nemo»[3]
Вдоль носа белело в тени.
Мы влезли в корабль наш пузатый.
Я взял капитанскую власть.
Купальный костюм полосатый
На палке зареял, как снасть.
Так много чудес есть на свете!
Земля — неизведанный сад…
— На Яву? — Но странные дети
Шепнули, склонясь: — В Петроград.
Кайма набежавшего вала
Дрожала, как зыбкий опал.
Команда сурово молчала,
И ветер косички трепал…
По гребням запрыгали баки.
Вдали над пустыней седой
Сияющей шапкой Исаакий
Миражем вставал над водой.
Горели прибрежные мели,
И кланялся низко камыш:
Мы долго в тревоге смотрели
На пятна синеющих крыш.
И младшая робко спросила:
«Причалим иль нет, капитан?..»
Склонившись над кругом штурвала,
Назад повернул я в туман.
I
Суша тверже, я не спорю,—
Но морская зыбь мудрей…
Рано утром выйдешь к морю —
К пляске светлых янтарей:
Пафос мерных колыханий,
Плеск волнистых верениц,—
Ни фабричных труб, ни зданий,
Ни курортов, ни темниц…
Как когда-то в дни Еноха,
Неоглядна даль и ширь.
Наша гнусная эпоха
Не вульгарный ли волдырь?
Четвертуем, лжем и воем,
Кровь, и грязь, и смрадный грех…
Ах, Господь ошибся с Ноем,—
Утопить бы к черту всех…
Парус встал косою тенью,
Трепыхнулся и ослаб.
Горизонт цветет сиренью.
— Здравствуй, море! — Кто ты? — Раб.
II
У воды малыш в матроске,
Пухлый, тепленький цветок,
Плачет, слизывая слезки,
И куда-то смотрит вбок.
Спинки волн светлее ртути…
«Что с тобой? Давай играть!»
Он шепнул тихонько: «Mutti»…
«Mutti» — это значит — мать.
Мать в кабинке ржет с кузеном,
И купальное трико
Над упитанным коленом
Впилось в бедра глубоко.
Мальчик, брось! Смотри — из сеток
Рыбаки невдалеке
Сыпят крошечных креветок…
Ишь, как вьются на песке…
Ах, как сладко к теплой грудке
Ухом ласковым прильнуть!
Mutti выползла из будки.
— Ну, прощай! — Куда ты? — В путь.
III
На волне всплыла медуза.
Я поймал ее в кувшин:
В киселе сквозного пуза
Жилки алых паутин.
Мерно дышит и колышет
Студень влажный и живой,
И не видит, и не слышит…
Ах, как трудно с головой!
Теснота. На взрытом пляже
Скоро негде будет лечь.
В синеве над морем даже
Человеческая речь!
В гидропланной этажерке
За сто марок — флирт для всех…
Лет чрез двести всем по мерке
Отведут клочок в орех.
Впрочем… дьявол революций —
Ненасытный вурдалак…
Что же, мой морской Конфуций,
Хочешь в море? Вот чудак!
IV
В загороженной берлоге
Греем мясо на песке:
Бедра, спины, груди, ноги —
Всё в одном сплошном куске.
Волосатые Адамы
Вяло шлепают девиц.
Раскоряченные дамы
С балыками вместо лиц…
У воды орет фотограф:
«Эй, сниматься! Поскорей…»
О Колумб, шатун-географ,
Ты не видел дикарей!..
Девы, выпятивши груди,
Загораживают дам.
Луч блаженства в общей груде
Так и реет по рядам…
А в волнах, вздев дам на плечи,
Рой самцов выводит па…
Наслаждайся, человече:
Это — голая толпа.
V
За обедом скифский боров,
В пиджачке à lа Кокó,
Всласть разводит сеть узоров,
Лая звонко и легко:
«Я — инструктор пчеловодства.
Сотни курсов! Пчелы — вот!
Всю Европу от банкротства
Лишь советский мед спасет…»
Врал и жрал — свиная челюсть
Хлопотала над жарким.
Стол решил: «Ах, мед, вот прелесть!..»
Я, томясь, следил за ним.
Вот он весь, с нутром и кожей,
Из замученной страны:
Мутноглазый, пухлорожий,
Черт с душою сатаны…
Фрау Флакс, отставив палец,
Вдруг ко мне склонила рот:
«Вы ведь русский?» — Португалец.
Что сказать ей?.. Не поймет.
VI
Лунный щит молчит над пляжем.
Зыбь в серебряной пыли.
Море матовым миражем
Оградилось от земли.
В вилле лупят на рояле
Разухабистый фокстрот.
Бегемот в испанской шали
Семенит в курзальный грот…
Львы в штанах с чеканной складкой
Жмут грудастых белых фей…
На веранде, в позе сладкой
Голосит тено́р — Орфей.
Рвутся вскрики флиртоблуда,
Тишину воды дробя…
О любовь, земное чудо,
Приспособили тебя!
К черту!.. Точка… Завтра рано
Влажный парус рыбака
В зыбь рассветного тумана
Окунет мои бока.