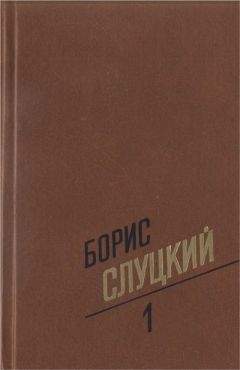«Плохие времена тем хороши…»
Плохие времена тем хороши,
что выявленью качества души
способствуют и казни, и война,
и глад, и мор — плохие времена.
Пока ты цел, пока ты сыт, здоров,
не зван в суды, не вызвал докторов,
неведомы твой потолок и цель,
параметры — темны, пока ты цел.
Когда ты бит, когда тебя трясут,
и заедает вошь, и мучит суд,
ты бытию предпочитаешь быт.
Все выясняется, когда ты бит.
Но иногда все существо твое
предпочитает все же
бытие,
и власть теряет над людьми беда,
когда бывает это иногда.
«Десятилетье Двадцатого съезда…»
Десятилетье Двадцатого съезда,
ставшего личной моей судьбой,
праздную наедине с собой.
Все-таки был ты. Тебя провели.
Меж Девятнадцатым и Двадцать первым —
громом с неба, ударом по нервам,
восстановлением ленинских норм
и возвращеньем истории в книги,
съезд, возгласивший великие сдвиги!
Все-таки был ты. И я исходил
из твоих прений, докладов, решений
для своих личных побед и свершений.
Ныне, когда поняли все,
что из истории, словно из песни,
слово — не выкинь, хоть лопни и тресни,
я утверждаю: все же ты был,
в самом конце зимы, у истока,
в самом начале весеннего срока.
Зубы крепко, как члены в президиуме,
заседали в его челюстях.
В полном здравии, в лучшем виде, уме,
здоровяк, спортсмен, холостяк,
воплощенный здравый рассудок,
доставала, мастер, мастак,
десяти минуток из суток
не живущий просто так.
Золотеющий лучшим колосом
во общественном во снопу,
хорошо поставленным голосом
привлекает к себе толпу.
Хорошо проверенным фактом
сокрушает противника он,
мерой, верой, тоном и тактом,
как гранатами, вооружен.
Шкалик, им за обедом выпитый,
вдохновляет его на дела.
И костюм сидит, словно вылитый,
и сигара сгорает дотла.
Нервы в полном порядке, и совесть
тоже в полном порядке.
Вот он, этой эпохи новость,
первый овощ, вскочивший на грядке.
«Девушки, достигнув восемнадцати…»
Девушки, достигнув восемнадцати,
жаждут красоваться и лобзать.
Юноши, достигнув восемнадцати,
не хотят
в историю влезать.
Нет, не в милицейскую историю,
а в большую русскую историю,
в пятитомного Ключевского,
в том шестой,
и в тридцатитомного огромного
Соловьева.
Хочется им легкой и простой
жизни
без размаха и объема.
Да, устали от пяти томов,
и от курса краткого устали,
и портянок не перемотали
у горячих батарей домов
свежевыстроенных, кооперативных.
Нынче мало глупых и активных.
Валяют Ваньку. Но Ваньке валянье —
вострый нож. Вострее ножа.
И Ванька начинает вилянье
на самой грани. У рубежа.
На грани смерти и несмерти,
там, где граничат жизнь и нежизнь,
Ванька, разобравшись в предмете,
шепчет себе то «Встань!», то «Ложись!».
Он то встанет, то сядет, то ляжет,
то растерян, то снова рьян.
Только никто ему не скажет:
— Иди, Ванюша! Гуляй, Иван!
В чем вина его? За что валяют
и распрямиться не позволяют?
За что пинают, ногами бьют
и приподняться не дают?
Ванька встревожен и недоволен,
но понимает, что одинок.
А один — в поле не воин.
Вот его снова валят с ног.
Снова валят и снова валяют,
снова кричат, что Ванька — дурак,
и нервы Ванькины гуляют,
а делать — что?
А быть-то — как?
Довертелась земля до ручки,
докрутилась до кнопки земля.
Как нажмут — превратятся в тучки
океаны
и в пыль — поля.
Вижу, вижу, чувствую контуры
этой самой, секретной комнаты.
Вижу кнопку. Вижу щит.
У щита человек сидит.
Офицер невысокого звания —
капитанский как будто чин,
и техническое образование
он, конечно, не получил.
Дома ждут его, не дождутся.
Дома вежливо молят мадонн,
чтоб скорей отбывалось дежурство,
и готовят пирамидон.
Довертелась земля до ручки,
докрутилась до рычага.
Как нажмут — превратится в тучки.
А до ручки — четыре шага.
Ходит ночь напролет у кнопки.
Подойдет. Поглядит. Отойдет.
Станет зябко ему и знобко…
И опять всю ночь напролет.
Бледно-синий от нервной трясучки,
голубой от тихой тоски,
сдаст по описи кнопки и ручки
и поедет домой на такси.
А рассвет, услыхавший несмело,
что он может еще рассветать,
торопливо возьмется за дело.
Птички робко начнут щебетать,
набухшая почка треснет,
на крылечке скрипнет доска,
и жена его перекрестит
на пороге его домка.
«Разрывы авиабомб напоминают деревья…»
Разрывы авиабомб напоминают деревья.
Атомные взрывы напоминают грибы.
Что ж! К простому от сложного проистекает кочевье
нашей судьбы.
Следующая гибель будет похожа на плесень,
будет столь же бесхитростна и сыровата — проста.
А после нее не будет ни сравнений, ни песен —
ни черта.
Где-то в небе летит ракета.
Если верить общей молве,
отношенье имеет это
между прочих — к моей судьбе.
Побывала судьба — политикой.
Побывала — газетной критикой.
Побывала — большой войной.
А теперь она — вновь надо мной.
А сейчас она — просто серая,
яйцевидная, может быть,
и ее выпускают серией.
Это тоже нельзя забыть.
А ракеты летят, как стаи
журавлей или лебедей,
и судьба — совсем простая,
как у всех остальных людей.
«Будущее, будь каким ни будешь!..»
Будущее, будь каким ни будешь!
Будь каким ни будешь, только будь.
Вдруг запамятуешь нас, забудешь.
Не оставь, не брось, не позабудь.
Мы такое видели. Такое
пережили в поле и степи!
Даже и без воли и покоя
будь каким ни будешь! Наступи!
Приходи в пожарах и ознобах,
в гладе, в зное, в холоде любом,
только б не открылся конкурс кнопок,
матч разрывов, состязанье бомб.
Дай работу нашей слабосилке,
жизнь продли. И — нашу. И — врагам.
Если умирать, так пусть носилки
унесут. Не просто ураган.
В том институте, словно караси
в пруду,
плескались и кормов просили
веселые историки Руси
и хмурые историки России.
В один буфет хлебать один компот
и грызть одни и те же бутерброды
ходили годы взводы или роты
историков, определявших: тот
путь выбрало дворянство и крестьянство?
и как же Сталин? прав или не прав?
и сколько неприятностей и прав
дало Руси введенье христианства?
Конечно, если водку не хлебать
хоть раз бы в день, ну, скажем, в ужин,
они б усердней стали разгребать
навозны кучи в поисках жемчужин.
Лежали втуне мнения и знания:
как правильно глаголят Маркс и я,
благопристойность бытия
вела к неинтересности сознания.
Тяжелые, словно вериги, книги,
которые писалися про сдвиги
и про скачки всех государств земли, —
в макулатуру без разрезки шли.
Тот институт, где полуправды дух,
веселый, тонкий, как одеколонный,
витал над перистилем и колонной, —
тот институт усердно врал за двух.