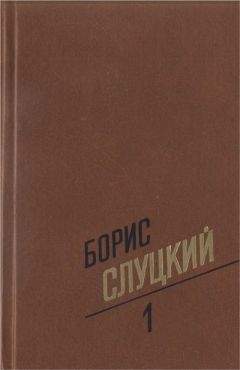«Я в ваших хороводах отплясал…»
Я в ваших хороводах отплясал.
Я в ваших водоемах откупался.
Наверно, полужизнью откупался
за то, что в это дело я влезал.
Я был в игре. Теперь я вне игры.
Теперь я ваши разгадал кроссворды.
Я требую раскола и развода
и права удирать в тартарары.
«Дайте мне прийти в свое отчаянье…»
Дайте мне прийти в свое отчаянье:
ваше разделить я не могу.
А покуда — полное молчанье,
тишина и ни гугу.
Я, конечно, крепко с вами связан,
но не до конца привязан к вам.
Я не обязательно обязан
разделить ваш ужас, стыд и срам.
Смолоду и сдуру —
мучились и гибли.
Зрелость это — сдула.
Годы это — сшибли.
Смолоду и сослепу
тыкались щенками.
А теперь-то? После-то?
С битыми щеками?
А теперь-то нам-то
гибнуть вовсе скушно.
Надо, значит — надо.
Нужно, значит — нужно.
И толчется совесть,
словно кровь под кожей.
Зрелость или псовость —
как они похожи.
«Эпоха закончилась. Надо ее описать…»
Эпоха закончилась. Надо ее описать.
Ну, пусть не эпоха — период, этап,
но надо его описать, от забвенья спасать,
не то он забудется.
Не то затеряют его, заровняют его,
он прочерком, пропуском станет,
и что-то — в ничто превратится.
И ничего
в истории из него не застрянет.
Этап — завершился. А я был в начале этапа.
Я видел его замечательную середину
и ту окончательную рутину,
в которой застряли от ездового до штаба
все.
Я прожил этап не единоличником, частником:
свидетелем был и участником был.
Возможно, что скажут теперь — соучастником.
Действительно, я отвечаю не меньше других.
А что ж! Раз эпоха была и сплыла —
и я вместе с нею сплыву неумело и смело.
Пускай меня крошкой смахнут вместе с ней со стола,
с доски мокрой тряпкой смахнут, наподобие мела.
«Интересные своеобычные люди…»
Интересные своеобычные люди
приезжают из Веси, и Мери, и Чуди,
приспосабливают свой обычай
к современным законам Москвы
или нрав свой волчий и бычий
тащат, не склонив головы.
И Москва, что гордилась и чудом и мерой,
проникается Чудью и Мерей.
Вся Москва проникается Весью
от подвалов и до поднебесья.
И из этой смеси
в равной мере Москвы и Веси,
в равной мере
Москвы и Мери
возникает чудо
из Москвы и Чуди.
«Поумнели дураки, а умники…»
Поумнели дураки, а умники
стали мудрецами.
Глупости — редчайшие, как уники.
Сводятся везде концы с концами.
Шалое двадцатое столетье,
дикое, лихое,
вдруг напоминает предыдущее —
тихое такое.
Может быть, оно утихомирится
в самом деле?
Перемен великая сумятица
на пределе.
Может, войн и революций стоимость
после сверки и проверки
к жизни вызовет благопристойность
девятнадцатого века.
«Я вдруг заметил, что рассказы…»
Я вдруг заметил, что рассказы —
история вслед за историей
не слушаются, а точнее,
не слышатся аудиторией.
Родители, сироты, вдовы
устали от всего такого:
от пораженья возле Гдова
и от победы возле Пскова.
Их память не сопоставлялась
с одическими восклицаньями,
а жажда их не утолялась
бряцаньями и прорицаньями.
Война штабов, война умов,
сказания о взятых замках
не доходили до домов,
до фотографий в черных рамках.
Но лучшей музыкой как будто
звучали справки жестяные:
во что одеты, как обуты
солдаты, их бойцы родные.
Переплывали реки с ними,
терпели зиму, лета ждали —
и с кадровыми, и с приписными, —
и гордо вешали медали.
И сводку слушали, и водку
внутрь принимали граммов по сту,
и на прямую шли наводку,
дивясь сноровке и упорству.
ВОСПОМИНАНИЕ О ПАВЛЕ КОГАНЕ
Разрыв-травой, травою повиликой
………………………………………
мы прорастем по горькой, по великой
по нашей кровью политой земле.
(Из несохранившегося стихотворения Павла Когана)
Павел Коган, это имя
уложилось в две стопы хорея.
Больше ни во что не уложилось.
Головою выше всех ранжиров
на голову возвышался.
Из литературы, из окопа
вылезала эта голова.
Вылезала и торчала
с гневными веселыми глазами,
с черной, ухарской прической,
с ласковым презрением к друзьям.
Павел Коган взваливал на плечи
на шестнадцать килограммов больше,
чем выдерживал его костяк,
а несвоевременные речи —
гордый, словно Польша, —
это почитал он за пустяк.
Вечно преждевременный, навечно
довременный и послевременный Павел
не был своевременным, конечно.
Впрочем, это он и в грош не ставил.
Мало он ценил все то, что ценим,
мало уважал, что уважаем.
Почему-то стал он этим ценен
и за это обожаем.
Пиджачок. Рубашка нараспашку.
В лейтенантской форме не припомню…
В октябре, таща свое раненье
на плече (сухой и жесткой коркой),
прибыл я в Москву, а назначенье
новое, на фронт, — не приходило.
Где я жил тогда и чем питался,
по каким квартирам я скитался,
это — не припомню.
Ничего не помню, кроме сводок.
Бархатистый голос,
годный для приказов о победах,
сладостно вещал о пораженьях.
Государственная глотка
объявляла горе государству.
Помню список сданных нами градов,
княжеских, тысячелетних…
В это время встретились мы с Павлом
и полночи с ним проговорили.
Вспоминали мы былое,
будущее предвкушали
и прощались, зная: расстаемся
не на день-другой,
не на год-другой,
а на век-другой.
Он писал мне с фронта что-то вроде:
«Как лингвист, я пропадаю:
полное отсутствие объектов».
Не было объектов, то есть пленных.
Полковому переводчику
(должность Павла)
не было работы.
Вот тогда-то Павел начал лазать
по ночам в немецкие окопы
за объектами допроса.
До сих пор мне неизвестно,
сколько языков он приволок.
До сих пор мне неизвестно,
удалось ему поупражняться
в формулах военного допроса
или же без видимого толка
Павла Когана убило.
В сумрачный и зябкий день декабрьский
из дивизии я был отпущен на день
в городок Сухиничи
и немедля заказал по почте
все меню московских телефонов.
Перезябшая телефонистка
раза три устало сообщала:
«Ваши номера не отвечают»,
а потом какой-то номер
вдруг ответил строчкой из Багрицкого:
«…Когана убило».
«Снова дикция — та, пропитая…»
Снова дикция — та, пропитая,
и чернильница — та, без чернил.
Снова зависть и стыд испытаю,
потому что не я сочинил.
Снова мне — с усмешкой, с насмешкой,
с издевательством, от души
скажут — что ж, догоняй, не мешкай,
хоть когда-нибудь так напиши.
В нашем цехе не учат даром!
И сегодня, как позавчера,
только мучат с пылом и с жаром
наши пьяные мастера.
Мучат! — верно, но также — учат.
Бьют! Но больше за дело бьют.
Объясняют нам нашу участь,
оступиться в нее не дают.
Не намного он был меня старше,
но я за три считал каждый год.
При таком, при эдаком стаже
сколько прав у него, сколько льгот!
Пожелтела, поблекла кожа —
и ухмылка нехороша.
С бахромою на брюках схожа
пропитая его душа.
Все равно я снимаю шапку,
низко кланяюсь, благодарю,
уходя по ступеням шатким,
тем же пламенем смрадным горю.
«Сельвинский — брошенная зона…»