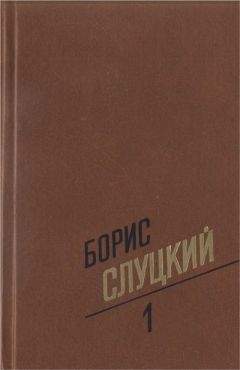«Необходима цель…»
Необходима цель
стране и человеку.
Минуте, дню и веку
необходима цель.
Минуту исключим.
И даже день, пожалуй, —
пустой бывает, шалый,
без следствий и причин.
Но век или народ
немыслим без заданья.
По дебрям мирозданья
без цели не пройдет.
Особенно когда
тяжелая година,
цель так необходима,
как хлеб или вода.
Пусть где-нибудь вдали
фонарик нам посветит
и людям цель отметит,
чтоб мы вперед пошли.
«В этот день не обходили лужи…»
В этот день не обходили лужи —
шлепали ногами по воде,
хоть, наверно, понимали: лучше
обойти посуше где.
В этот полдень солнце не блистало.
В эту полночь спряталась луна.
Шли по лужам, думая устало:
обходить? какого там рожна!
Все подробности перезабылись,
тени не наводят на плетень.
Помню только: ноги ознобились
в этот день.
«Пока меня за руки держат…»
Пока меня за руки держат,
я сосредоточен и сдержан
и вяло мотаю башкой
под чьей-нибудь тяжкой рукой.
Но только мне руки отпустят —
да что там! хотя бы одну, —
но только до драки допустят,
я тотчас же драку начну.
Не вечный бой, как у Блока,
а просто — долгая драка,
но это — тоже неплохо,
и выделяет из праха,
и выделяет из пыли,
из человеческой моли,
когда ты в пене и мыле,
забывая о боли,
от боли, уже нестрашной,
качаясь, как трава,
в уличной, в рукопашной
качаешь свои права.
Я был плохой приметой,
я был травой примятой,
я белой был вороной,
я воблой был вареной.
Я был кольцом на пне,
я был лицом в окне
на сотом этаже…
Всем этим был уже.
А чем теперь мне стать бы?
Почтенным генералом,
зовомым на все свадьбы?
Учебным минералом,
положенным в музее
под толстое стекло
на радость ротозею,
ценителю назло?
Подстрочным примечаньем?
Привычкой порочной?
Отчаяньем? Молчаньем?
Нет, просто — строчкой точной,
не знающей покоя,
волнующей строкою,
и словом, оборотом,
исполненным огня,
излюбленным народом,
забывшим про меня…
«Пошуми мне, судьба, расскажи…»
Пошуми мне, судьба, расскажи,
до которой дойду межи.
Отзови ты меня в сторонку,
дай прочесть мою похоронку,
чтобы точно знал: где, как,
год, месяц, число, место.
А за что, я знаю и так,
об этом рассуждать неуместно.
СКВОЗЬ МУТНОЕ СТЕКЛО ОКНА
В окне — четыре этажа,
быть может, двадцать биографий
просвечивают, мельтеша,
сквозь стекла и сквозь ткань гардин
всем блеском разноцветных граней.
Их описатель я — один.
Да, если я не разберусь
сквозь ливня полосу косую,
их радость канет, сгинет грусть,
их жизнь пройдет зазря и всуе,
промчится неотражена,
замрет, отдышит невоспета.
Напрасно мужа ждет жена,
напрасно лампа зажжена,
и все напрасно без поэта.
Куплю подзорную трубу
и посвящу себя труду
разглядыванья, изученья
и описанья. Назначенье
свое, стезю свою, судьбу
в соседских окнах я найду.
«Что нужно на дожитие тирану…»
Что нужно на дожитие тирану,
который снят с работы слишком рано,
сменен, но не заколот и не изгнан
и даже пенсии достойным
признан?
Тиран, который жил в палате душной,
оценит в должной мере свежий воздух.
Добру и злу внимая равнодушно,
он говорит о небесах и звездах.
Тиран с усмешкою глядит на смену:
кишки тонки, слабы коленки,
живут не так, работают не смело.
Бессильные! Духовные калеки!
В горячую грязцу воспоминаний
года уже тирана повалили.
Он с нетерпеньем ждет упоминаний
историка, его хвалы, хулы ли.
Завалинка, где он обязан греться
под зябким, хладным солнышком забвенья,
ему шикарней Римов или Греций
покажется, но на одно мгновенье.
И здравый смысл, что выволок когда-то
из грязи в князи,
вновь его находит.
И твердым шагом бывшего солдата
тиран
от милых призраков уходит.
«Вот она, отныне святая…»
Вот она, отныне святая,
пустота,
как прежде — пустая,
полая, как гнилой орех,
но святая — почти для всех.
Принимаю без всякой тревоги
и терпеть без претензий готов,
что на шеях куриные боги
вместо тех человечьих крестов.
Эти мелкие дыры сквозные,
эти символы пустоты
и сменили и заменили
все, что людям несли кресты.
Хоть они и пусты и наги,
в них все признаки смены вех
тоже знаменья, тоже знаки,
выражают тоже свой век.
И лежат они на загарах,
и висят они на шнуре,
как блестели кресты на соборах,
золотели на заре.
Перепробовав все на свете,
мы невиннее, чем слеза.
Снова мы, как малые дети,
начинаем с начала, с аза.
Комья глины на крышку гроба валя
(ноне старым богам — не житье),
пустоту мы еще не пробовали.
Что ж! Попробуем и ее.
Игра не согласна,
чтоб я соблюдал ее правила.
Она меня властно
и вразумляла и правила.
Она меня жестко
в свои вовлекала дела
и мучила шерстку,
когда против шерстки вела.
Но все перепробы,
повторные эксперименты
мертвы, аки гробы,
вонючи же, как экскременты.
Судьба — словно дышло.
Игра — забирает всего,
и, значит, не вышло,
не вышло совсем ничего.
Разумная твердость —
не вышла, не вышла, не вышла.
Законная гордость —
не вышла, не вышла, не вышла.
Не вышел процент
толстокожести необходимой.
Я — интеллигент
тонкокожий и победимый.
А как помогали,
учили охотно всему!
Теперь под ногами
вертеться совсем ни к чему.
И, бросив дела,
я поспешно иду со двора,
иду от стола,
где еще протекает игра.
«Я в ваших хороводах отплясал…»
Я в ваших хороводах отплясал.
Я в ваших водоемах откупался.
Наверно, полужизнью откупался
за то, что в это дело я влезал.
Я был в игре. Теперь я вне игры.
Теперь я ваши разгадал кроссворды.
Я требую раскола и развода
и права удирать в тартарары.
«Дайте мне прийти в свое отчаянье…»
Дайте мне прийти в свое отчаянье:
ваше разделить я не могу.
А покуда — полное молчанье,
тишина и ни гугу.
Я, конечно, крепко с вами связан,
но не до конца привязан к вам.
Я не обязательно обязан
разделить ваш ужас, стыд и срам.
Смолоду и сдуру —
мучились и гибли.
Зрелость это — сдула.
Годы это — сшибли.
Смолоду и сослепу
тыкались щенками.
А теперь-то? После-то?
С битыми щеками?
А теперь-то нам-то
гибнуть вовсе скушно.
Надо, значит — надо.
Нужно, значит — нужно.
И толчется совесть,
словно кровь под кожей.
Зрелость или псовость —
как они похожи.
«Эпоха закончилась. Надо ее описать…»