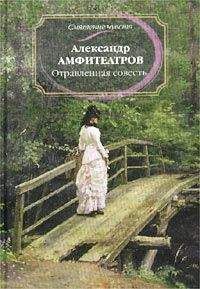Мать лицемерка и лгунья! — какая отрава вливается в детское воображение этими четырьмя словами! Нет порока, более противного детям, чем лицемерие. Людмила Александровна вспомнила, как Лида и Леля негодовали недавно на Олимпиаду Алексеевну, когда она, встретясь у Верховских с Еленою Львовною Алимовой, осыпала последнюю лестью, ласками и поцелуями, между тем как накануне честила ее за глаза и «ханжой», и «злюкой» и уверяла, будто при жизни покойного Александра Григорьевича Рахманова Елена Львовна заедала ее век. Вспомнила сверкающие глаза и гневный голос Мити, когда он, возвратясь из гимназии, рассказывает о какой-нибудь несправедливости инспектора или классного наставника, о фискалах-товарищах, о подлизах к начальству. Вспомнила, как его — хорошего ученика — чуть не исключили за то, что при одном гонении на курильщиков он, сам некурящий, отказался назвать, кто курил.
— Но, Верховский, берегись! — пригрозил, инспектор. — Я уверен, что вы знаете, кто курил! Ведь знаете: говорите правду!
— Знаю, — откровенно отвечал мальчик. — Знаю, да не скажу.
Пошел в карцер, добыл сбавку балла за поведение, но — «знал, да не сказал!».
Кто так храбро и самоотверженно ненавидит ложь и обман, — наученный этой ненависти тайною лгуньею и обманщицей, — какое страшное разочарование ждет его, когда она снимет маску!.. Как должен он будет разувериться в правде света, как станет презирать и ненавидеть наставницу-фарисейку… презирать и ненавидеть родную мать!
— Нет! я должна спасти себя от презрения детей! — размышляла Людмила Александровна под невыносимую стукотню своих висков. — Должна спасти их от ненависти ко мне. Если человеку противна родная мать, что же уважать остается ему на свете?!
— Я повинуюсь Ревизанову. Пусть я стану еще порочнее и хуже, но зато лишь пред самой собой. Моя семья останется приютом явной добродетели и семейного счастья, а за мои тайные грехи ответит моя душа. Будь что будет! Пусть хоть убьет меня мой стыд, лишь бы втихомолку, чтобы не вырвалось ни жалобы, ни даже одного подозрительного слова, чтобы я ушла от людей чистою, как слыла между ними, чтобы дети мои поминали мое имя с гордостью, а не с отвращением. Мною держится мой домашний очаг. Он дает тепло и свет слишком многим. Я не имею права его разрушать. Я повинуюсь.
Андрей Яковлевич Ревизанов получил по городской почте письмо — на тонкой голубой бумаге, без подписи, но почерк, хотя измененный годами, был ему знаком. Едва взглянув на конверт, он радостно изменился в лице…
— От кого это голубое письмо? — ревниво спросила сидевшая с ним за завтраком красивая черноволосая женщина.
— Деловое, Леони, — небрежно бросил ей Ревизанов.
— Да? Покажи!
Она протянула руку. Ревизанов слегка ударил ее бумагою по пальцам и спрятал голубое письмо в карман. Леони залилась румянцем.
— Ах, извините! Я не знала…
— Так знай.
— Буду знать.
Ревизанов взглянул на часы:
— Тебе не пора ли в цирк?
— Я тебе мешаю? — возразила Леони ревнивым вопросом вместо ответа.
— Нисколько… Я рассчитывал провести с тобою часок-другой после завтрака, потому что совершенно свободен. Могли бы прокатиться в Парк, что ли, или в Сокольники. Погода чудная. Путь — как скатерть, снег — серебро. Но ты сама говоришь, что у тебя дневное представление. Что тебе за охота — баловать своего директора, соглашаться на два номера в сутки? Довольно с этого итальяшки и вечеров…
— Сборы плохи. Я все-таки привлекаю немножко публику, а без меня — совсем швах.
Ревизанов презрительно улыбнулся:
— Правило товарищества?
— Да, знаешь, мы, цирковые, дружный народ.
— Ну и платись за дружбу: половина второго… Даже кофе не успеешь напиться.
— Нет, ничего. Я скачу в третьем отделении, предпоследним номером… Имею по крайней мере двадцать минут в запасе.
— Как знаешь.
— А ведь я было думала, — начала Леони с заискивающей и фальшивой улыбкой усмиренной ревности, — ты гонишь меня потому, что это голубое письмо назначает тебе свидание с какою-нибудь дамой.
— Очень мне надо знать все глупости, которые ты думаешь! — пробормотал Ревизанов.
Она продолжала:
— Этот деловой документ необыкновенно похож на письмо от женщины.
— Ты находишь?
— От кого эта записка?
— Это не твое дело, Леони! — коротко отрезал Ревизанов.
Наездница вспыхнула и прикусила губу.
— Знаете, мой милый, — насмешливо протянула она, — вы становитесь не слишком-то любезны в последнее время.
— Может быть! — последовал равнодушный ответ.
Под матовою кожею Леони гневно заиграли мускулы.
— Я не знаю, чем это милое настроение вызывается у вас, — сдерживаясь, продолжала она тем же насмешливым тоном, — может быть, у вас дела нехороши, может быть, вы влюблены неудачно… Но, во всяком случае, я не желаю быть предметом, на котором срывают дурное расположение духа. Я к этому не привыкла.
Ревизанов зевнул с холодною скукою:
— Не трещи… надоела!
Леони вскочила, сверкая глазами:
— Я запрещаю вам говорить со мною в таком тоне!
Леони никто еще не говорил, что она надоела.
— Ну, а я говорю.
Наездница топнула ногою, хотела разразиться градом брани и, вместо того, залилась слезами.
— Это гнусно, гнусно так обращаться с женщиной! — рыдала она.
— Да полно, пожалуйста! что за трагедия? Я никак с тобою не обращаюсь: ты беснуешься и ругаешься, а я нахожу, что это скучно, — вот и все.
— Если вам скучно со мною, — вспыхивала Леони, — отпустите меня, разойдемся… Не вы один любите меня, я найду свое счастье с другим…
— С другими, Леони, с другими, — надо быть точнее в выражениях, — засмеялся Ревизанов.
Леони горько покачала головою:
— Вы никогда не любили меня, если можете шутить со мною так обидно!
— Разумеется, никогда, Леони. Кажется, у нас, когда мы сходились, и разговора об этом не было… И не могло быть: откуда? А ты разве любила меня и любишь? Вот была бы новость!..
Наездница все качала головою.
— Нет, нет, нет… этой новости вы не услышите, — говорила она с гневною иронией смертельной обиды, — я вас, конечно, и не люблю, и не уважаю… вы для меня просто денежный мешок, откуда можно брать горстями золото… не так ли?
Ревизанов пожал плечами:
— Не знаю, как по-твоему; по-моему, так. Да я ни на что больше и претензий не имею. Какая там любовь? Зачем? Я плачу и не жалуюсь. Ты очень красивая и занимательная женщина…
— А главное, в моде, — насмешливо перебила Леони. — Так приятно ведь, чтобы обе столицы русские кричали о вас: вот Ревизанов, который отбил знаменитую Леони у князя Носатова…
— Не скрываю: и это не без приятности, — согласился Ревизанов.
Леони злобно засмеялась:
— Вот этой-то славы у вас и не будет больше! и не будет! как не будет самой Леони… Кусайте себе тогда локти!.. и утешайтесь вон с этою, которая пишет вам письма… виновата, деловые документы — на голубой бумаге.
Ревизанов устремил на нее ленивый взгляд.
— Будет другая слава, — сказал он, — и гораздо более пикантная… Станут говорить: вот Ревизанов — знаете, тот самый, который выгнал от себя знаменитую Леони…
Наездница выпрямилась, как стрела, готовая сорваться с тетивы.
— Lache!.. [17] — крикнула она.
— Пошла вон!.. — раздался тихий ответ, и синие глаза Андрея Яковлевича приняли такое выражение, что Леони попятилась, как львица от укротителя. Она, бормоча невнятные угрозы, вышла в спальню Ревизанова, но скоро возвратилась, уже одетая к выходу, в шапочке, с хлыстом в руке. У дверей она обернулась — с искаженным темным лицом, на котором, как два яркие пятна, сверкали глаза и оскаленные зубы…
— Вас следовало бы вот этим! — сказала она, грозя Ревизанову хлыстом.
Андрей Яковлевич поднялся с места и шагнул к Леони. Она струсила и съежилась, ожидая удара… Но он не бил, а только смотрел на нее с презрительным любопытством, как будто говорил взглядом: «Ах, дура, дура!»
Леони поняла этот взгляд — и страшно ей было, и бешенство брало ее. Нерешительно, как не смеющий напасть зверь, она топталась на пороге, — потом вдруг швырнула в Ревизанова своим хлыстом, не попала и быстрее молнии выскользнула за дверь.
— Идиотка! — уже громко послал ей вслед Андрей Яковлевич.
Он поднял хлыст, осмотрел его, подавил пружинку: ручка — серебряная головка левретки — отскочила, вытянув за собою тонкое трехгранное лезвие блестящей темно-синей стали.
«Изящная вещичка, — подумал он. — Сохраним ее на память об освобождении от иноплеменницы».
Он отнес хлыст в свою спальню и положил на туалетный столик. Потом позвонил.
— Иоган, — приказал он явившемуся слуге, — заметили вы эту даму, которая от меня вышла?
— Мадам Леони?