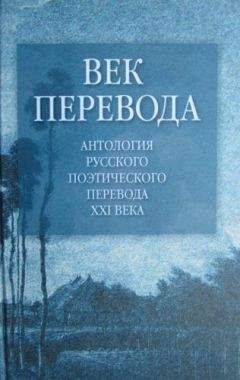МАША КАЛЕКО (1907–1975)
Я в городе невзрачном родилась,
где церковка, два-три ученых сана
и крупная больница (как ни странно —
«психушка»), что за годы разрослась.
Я в детстве часто говорила «нет».
В том радости для близких было мало.
Я и сама бы, право, не желала
такую дочь произвести на свет.
В одну из многих войн училась в школе.
Я рассуждала так в двенадцать лет:
«Не будет войн, наступит мир без бед», —
о совершенном думая глаголе.
Учителя признали мой талант,
засим образование мне дали.
Мы слова «сокращение» не знали,
когда нам выдавали аттестат.
Учителя нам ставили отметки,
заботились об уровне юнцов,
стараясь в жизнь нас выпустить из клетки…
опала я в бюро, в конце концов.
Я день-деньской на службе пропадала,
работала почти что задарма.
А вечерами что-то сочиняла
(отец решил, что я сошла с ума).
Карандашом по карте я вела
свои маршруты мнимых путешествий.
А в тихий день без всяких происшествий
большого счастья, так сказать, ждала…
У мелких городов одно лицо.
Все мазаны они единым мирром.
Окно. Мужчина. Завтрак: хлеб, яйцо.
И мухи, что кокетничают с сыром.
Подмигивает сахар и корица.
Соленья возбуждают аппетит.
И «Монпасье» на солнышке лоснится
и с детской ненасытностью роднит.
А за прилавком сдобная матрона —
с пакетиками в ручках — тут как тут
и между тем вещает скорбным тоном:
«А цены на муку опять растут…»
Поскольку грусть в глазах твоих жива
и лоб высокий думы омрачают,
позволь тебя утешить, — так слова
находит тот, кто колыбель качает.
Я призову и Солнце, и Ветра
дарить тебе хорошую погоду;
прекрасных снов да снизойдет пора
взамен тенет ночного небосвода.
А если ты споешь мне новый стих,
я всем стихиям благодарна буду
за то, что грусть жива в глазах твоих
и лоб тяжел от мыслей, равных чуду.
Сегодня видела я поезд уходящий.
Он шел как раз в Швейцарию. Иной
считает, «Студебеккер» лучше…
Но мне милее с давних пор могучий
дымящийся состав — кумир экрана;
когда-нибудь приедет он за мной
и увезет в неведомые страны.
Я не могу ни на одном перроне
спокойно возле поезда бродить
и, словно деловитый посторонний,
вокзалы стороною обходить.
Как это нелегко (поймут не сразу) —
в такие дни в автобусе, в час пик,
спокойным тоном выговорить фразу:
«Один билет до Штеглица…» Тупик.
Я видела сегодня: поезд скорый
ушел в Париж. Я остаюсь опять
на должном расстоянии стоять,
что мне без слов понятно в эту пору.
Никто не будет ждать в той стороне.
На привокзальной площади нет эха.
И места, где тоскуют обо мне,
нет в планах поездов и списках Рейха.
Они бросали в него каменья.
Улыбка с лица не сошла, —
он хотел собой оставаться,
не собственной тенью.
Никто его душу не разглядел.
И не было слышно ни жалоб, ни пенья,
когда в пустыню ушел Еремей.
Они бросали в него каменья.
Он дом построил из тех камней.
Сказав «Тоска по Родине», я мыслю
иллюзией: нет Родины в том смысле,
в каком ее я знаю, — в этом знанье
всё то, что подавляет нас в изгнанье.
Чужие мы в родных местах тех лет.
«Тоска» осталась. «Родины» лишь нет.
Я не ревнива по своей природе.
И в мыслях нет чего-то в этом роде.
Ах, в прошлый раз…
В тот раз, конечно… Впредь
благоразумной стану,
поглядеть
тебе на это будет интересно.
Допустим, что тебе со мною тесно.
Гуляй себе, я слова не скажу.
(Но: встретишься с Мими или Жужу,
за столиком в кафе с ней сядешь рядом…
И если я ее отмечу взглядом,
за светской болтовней и новостями
той даме — лаком крытыми когтями —
сама вцеплюсь в бесстыжие глаза!)
Моль вещи жрет в один присест,
а клоп берет натурой,
и каждый червь жив тем, что ест.
Я — сыт литературой.
Будь проза это или стих,
сюжет любой смакую,
хоть детектив, хоть миф:
от них я, как гурман, ликую.
Я так начитан, как никто,
я не дурак, признаюсь.
Что книга значит — знаем то!
Я книгами питаюсь.
Сил и смекалки даст сполна
та пища господину.
Что прочий тянет из зерна,
то я из Гёте выну.
Литературой я прожжен,
библиотекой вскормлен.
Но вкуса ворох книг лишен
и плохо приготовлен.
От чтенья есть и толк и прок,
хитрец нас убеждает.
Но есть в обжорстве свой порок:
он время убивает.
Не потерять бы головы,
над книгами коснея…
Ведь поглощенье книг, увы,
не делает умнее.
«В порту «Джульетта» нам ли горевать!
На катере выходим завтра в море,
Айме, моя последняя невеста, —
когда-то так же звали мою мать;
и Марио, наш сын. Была сиеста…»
Тот голос, скрипучий, как обод стальной,
других берегов достигал.
В Марселе, в типичной портовой пивной
гитара бренчала, певица кричала,
и слух наш изрядно страдал.
Девица прошла через зал,
молодая и незанятая,
запретные карты купила (чтоб после их перепродать).
Заказа она, в общем, тоже не прочь подождать.
Матросы с усмешкою: «Так вот оно и бывает!»
То был очень жаркий, по-южному солнечный день
вблизи Notre Dame de la Garde. Полдневная тень
ушла под столы, что к обеду гарсоны накрыли.
Двенадцать ударов часы аккуратно пробили.
Имели бы денег сполна иностранцы — с порога
акулий плавник заказать или, лучше всего, осьминога.
Но мистер лишь дюжину мидий велел принести.
О мидиях мистера справочник оповестил.
И с чувством фальшивым гитара стрекочет устало.
Певица в ускоренном ритме всё громче кричит;
а всё потому, что в тарелку монета упала
и в этой тарелке оббитой призывно бренчит.
Но там, за столом, где обычно шумит и теснится
гурьба моряков и крутых иностранных солдат,
где мясо без меры с тарелок руками едят,
там всё по-другому, чем пела старуха-певица.
Чуть что — за ножи, что лежат ближе к телу.
Гремит полицейский свисток то и дело!
Снаружи волной Средиземное Море играло,
вблизи кораблей еще ярче синело оно.
И солнце вокруг как положено солнцу сияло.
— И всё это также в расценочный лист включено.
Сад не увянет. У меня нет сада.
Нет дома, где бы ветер плакал от досады.
Не причиняет боль мне туч свинцовых клетка,
Поскольку небо вижу я и так довольно редко.
Я к звездам не стремлюсь уже, как прежде.
Мне газовый фонарь укажет путь к надежде.
Не огорчит беда, не впечатлит отрада.
Мне осень не страшна,
Ведь у меня нет сада…