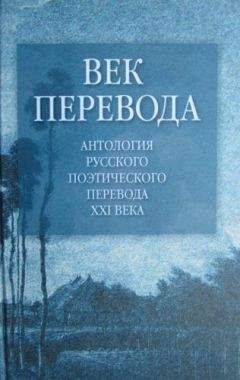***
В сутолоке дневной
Идет сквозь ревущую улицу
Очень пугливая курица
В городе милом и дальнем.
А где-то поближе к вечеру
Пронесутся два ряда каштанов
В направлении тишины:
Их речи залиты ночью.
Мы с тобою тихо ступаем
По луною шитым коврам,
Уже мы успели скинуть
Лохмотья тяжелого дня.
А когда потаенный возница
На ночь замахнется кнутом,
Мы с тобой налакаемся вдоволь
Белизны промелькнувшего детства.
Белым квадратом зуба
вонзись в мой палец,
чтобы красной залился кровью.
Черным глазом —
о нежной ночи душа! —
проникни в меня:
веселись там, пляши,
как темнеющий лес
в бледной ночи.
Или как черная птица
в темно-синем пространстве.
И едва затрепещет рассвет —
упаду пред тобой на колени
и пред самим собой —
ты впечатана в жизнь мою.
АВРААМ ШЛИОНСКИЙ (1900–1973)
Поколение, умевшее речи толкать,
не успевавшее слушать,
разобралось во всем,
а взлететь не сумело.
Вот оно, пред тобой,
на сей раз — в лохмотьях,
слушающее тишину
внимательно, как никогда прежде.
Как вдруг за ночь одну
ворота распахнулись.
Эй ты, робко ждущий за дверью,
жаждущий слов моих,
как прежде ты искал
того, кто слушать готов.
Ты знаешь, ты видишь,
не я постучался в дверь,
не я тебя звал —
мы сегодня позвали друг друга.
ЛЕА ГОЛЬДБЕРГ (1911–1970)
Красивый, древний гимн, который как-то
Осенним вечером пропел ты мне,
Когда трудился дождь в моем окне
И в песнь мою врывался гром бестактно, —
Глубокий звук его — органный звук;
Мотив был легок для запоминанья,
Чужой язык, нездешнее сиянье
И воспаленный, в алых маках, луг.
Стучало его сердце — за дождем,
За каплями измученным окном,
За много миль от темного заката,
В сиянье, где пропал его ответ,
И в тяжести упитанного сада…
Была ли я в той песне — или нет?
Здесь не услышу голоса кукушки,
И дерево не спрячется в снегу,
Но среди этих сосен, на опушке,
Я снова с детством встретиться могу.
Звенят иголки сосен: жили-были…
А я сугробы родиной зову,
И этих льдов густую синеву,
И песен тех слова, слова чужие.
Быть может, только перелетным птицам,
Которых держит в небе взмах крыла,
Известно, как с разлукою мириться.
О сосны! Родилась я вместе с вами,
Два раза вместе с вами я росла —
И в тот, и в этот край вросла корнями.
Небеса умирают. Деревья
Подготовились к смерти.
Кто знает? — Быть может, лишь камню
Суждено пережить нас
И выступить нам в оправдание,
Если его не убьют,
Настилая шоссе к новостройке.
Кто поверит? — у нас было имя,
В Небесах начертанное,
В складках древесной коры
И в сердцах у камней, —
Мы были,
Дышали
И прескверно ругались мы
В городе этом.
НАТАН ЙОНАТАН (1923–2004)
Когда ты любишь боль
Шипов, от крови алых,
Я удалюсь в пустыню,
Выучусь страдать;
А если веришь в стих,
Лишь высеченный в скалах,
В ущелье буду жить
И на камнях писать.
Но если там, в песках,
Застанет нас ненастье,
А лучшую из книг
Покроет черный снег,
Скажи мне те слова,
Что лучше слез и счастья:
Он, видимо, любил
Меня — тот человек…
ИЕГУДА АМИХАЙ (1924–2000)
Мы с Иерусалимом —
Что слепой с безногим:
Он глядит вместо меня —
До самого Мертвого моря,
До самого скончания времен.
А я сажаю его на плечи
И вслепую ступаю: всё вниз да вниз.
Не только мечи на орала,
Но даже орала
Перекуем на тромбоны
И на геликоны…
И если кому-то
Неймется сражаться —
Пусть он сначала
Всю эту музыку
Перекует на орала.
ДАЙ МНЕ ТО, ЧТО У ДЕРЕВА ЕСТЬ
Дай мне то, что у дерева есть и чего ему не потерять.
И дай мне способность терять то, что у дерева есть.
Тонкие эти черты. И ветер, чертящий летнею ночью.
И тьму, в которой нет ни чертежа, ни облика.
Дай мне облики те, что были и нет их теперь.
Смелость думать о том, что пропало. Дай мне
Глаз, чтоб осилить то, что он видит. И руку —
Тверже, чем то, что она просит.
Оставь мне наследство так, чтобы мне не досталось
Ничего из того, что соскочит в момент полученья.
Дай мне способность коснуться без страха
Именно этих предметов, из тех, что нельзя получить
В наследство. Дай подступиться.
Старик — как протекает жизнь его?
Встает с утра, не чувствуя утра,
И тащится на кухню. Теплый кран
Ему на руку выплеснет совет:
«А раз уж тебе столько, столько лет…»
Старик — что происходит по утрам?
Проснулся летом. Но от этих ламп —
Вечерний свет, лишь осени под стать…
Поход свой в коридор он завершал
Довольно долго — всё соображал,
За что теперь приняться, что читать.
Старик — да что ты в книгах не видал?
Их быстро пролистают сквозняки
И там, где есть о близости конца
Слова, загнут страницам уголки.
Во всеоружьи он поднимется,
Столь многоопытен, глаза блестят…
Старик, что скрыть глаза твои хотят?
Задумается, давний день войны
Всплывет в нем, жажда схваток и удач,
И риска, приближающего дни
Забвения. Из горла в этот миг
Выходят, как разведчики из рва,
Недолгие раскаты кашля — в них
Звучит рычанье тигров молодых…
Старик — да где же эти тигры, а?
Еще он выйдет в джунгли, как ходил,
Бывало; вдруг на зелень ляжет тень, —
Мальчишка беззаботный, полон сил,
Он выйдет на охоту, будет день.
Старик оставит годы позади,
Как долгое шоссе. В тот буйный час
Машина, задыхаясь, загудит;
В машине — сам он, жмет педали, мчась
За временем, ушедшим навсегда…
Старик, а знаешь, ведь в твои года…
Он дремлет, он боится засыпать.
Глаза прикрыты; каждую звезду
Он спрашивает, правда ли в саду
Раздался шепот: «в эту ночь — конец…»
Старик, что вдруг увидел ты в окне?
Окно открыто, в заоконный дым
Вплывает незнакомец — предлагать
Вновь обратиться тигром молодым.
Всегда лишь брать и ни за что не дать
Тому, что за окном, — не разрешить
Ему в последний вечер рядом быть…
Старик — чего он в этот вечер ждет?
Не царь он —
Не на меч он упадет.
ДАЛИЯ РАВИКОВИЧ (р. 1936)
Там узнала я страсть, какой никому не знать;
Это было в субботний день, день седьмой, —
Иглами к небу тянулись кедр и сосна.
На всем был свет: он хотел как ручей взлетать;
И кружок зрачка влюбился в круг золотой.
Так узнала я страсть, какой никому не знать.
И вечно готов был свет на верхушках кустов сиять,
Плавясь в ручье, зажигаясь любой волной;
Апельсин моей головы он глазами хотел глотать.
Золотые кувшинки в ручье распахнули рты, чтоб глотать
Всплески воды и стебельки над водой;
Был субботний день, потому что он был седьмой, —
Вожделенно, иголками к небу тянулись кедр и сосна,
И тогда узнала я страсть, какой никому не знать.